Четвертое измерение
История русского искусства — это история постоянного диалога с Европой, который складывался порой парадоксальным образом. На заре нового времени иностранные архитекторы и скульпторы стекались в Россию, где создавали свои величайшие произведения — от соборов Кремля до дворцов Петербурга. Постепенно «иноземные художества» становились частью русской традиции, а отечественные мастера находили собственный голос: будь то тихие сельские пейзажи Венецианова, монументальные исторические полотна Сурикова или ярмарочная Русь Кустодиева. Провинция дала искусству особую глубину и интонацию, а XX век принес дерзость авангарда. И если западные художники (например, Пикассо или Гоген) искали новые формы в Африке и на Таити, то русским авангардистам — Гончаровой, Ларионову или Петрову-Водкину — достаточно было обратиться к собственной традиции.
 Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком. 1895. Холст, масло. Фрагмент. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком. 1895. Холст, масло. Фрагмент. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
В русском искусстве путешествие из провинции в столицы или наоборот — это, оказывается, еще и путешествие во времени, возможность перенестись из одной эпохи в другую. Причем буквально.
Для русского художника наших дней свидетельством успеха, как ни крути, является признание на Западе и возможность там работать, выставляться, участвовать в престижных западных биеннале. Примерно до начала XIX века дело обстояло почти с точностью до наоборот — иностранные мастера охотно ехали на Русь и в Россию на заработки, и зачастую именно здесь создавали свои главные шедевры. «Русскую святыню» — Московский Кремль строили ведь именно иностранцы, начиная с Успенского собора, возведенного Аристотелем Фиораванти, инженером из города Болоньи. Он запросил неслыханно большой гонорар за работу — 10 рублей в месяц. Кстати, вернуться на родину с заработанными деньгами ему не удалось — одно из последних упоминаний о творце белокаменного кремлевского шедевра в летописях выглядит так: «Аристотель начал проситься у великого князя в свою землю; князь же великий поймал его и, ограбив, посадил на Онтоновом дворе за Лазорем святым». «Этот Аристотель был первый, открывший дорогу многим другим иноземным художникам», — замечает историк Костомаров. Потом итальянцы построили стены и башни Московского Кремля, Грановитую палату, Архангельский собор, колокольню Ивана Великого.
Итальянские гастарбайтеры именовались «фрязины» — говорят, вечно мерзнущие в России мастера постоянно жаловались на североитальянском диалекте: «Фре!» («Холодно!»), за что якобы и получили свое прозвище, а сокращенно — «фря». «Экая фря!» — почти точный древнерусский эквивалент нынешнему: «Понаехали тут!»




Фиораванти работал не только как архитектор — он умел лить пушки и колокола и чеканить монету. А когда Петр I пригласил работать в Россию флорентийца Карло Растрелли, у того в договоре значилось следующее: «Помянутый г. Растрелли обязуется ехать в С.-Петербург с сыном своим и учеником и работать в службе царского величества 3 года в всех художествах и ремеслах, которые он сам умеет, то есть: 1. Для планов и строения всяких созиданий, для садов и фонтанов и бросовых вод или тех, которые вверх прыскают. 2. В кумироделии всяких фигур и украшений в мраморе, порфире и твердых камней. 3. Для лития и выливания всяких фигур таковой величины, как пожелают, в меди, свинце или железе. 4. Для лития и делания многих вещей из стали. 5. Для составления всяких притворных мраморов разных цветов. 6. В рези штемпелей для медалей и монет. 7. Для делания портретов из воску и в гипсе, которые подобны живым людям. 8. Для тесания фигур и кумиров в мраморе и камне, которые подобны живым людям. 9. Для делания декораций или прикрас и машин к театрам оперским и комедиантским. 10. Обязуется он взять в свою службу тех людей русского народа, которых его царское величество изволит ему дать ради научения и обучения тех художеств и ремесл, которые он сам знает».
Столь развернутая цитата приведена к тому, чтобы лишний раз напомнить, что долгое время в России «художества» прежде всего предназначались для решения практических задач благоустроения жизни и зачастую смыкались с ремесленным умением. И такие «тонкие материи», как творческий дар, или вдохновение, или, там, какая-нибудь национальная и тем более географическая идентичность в качестве предмета рефлексии были русскому не то чтобы совсем неведомы, но оставались на периферии, в качестве иррациональных составляющих. Ибо все русское искусство представляло собой, так сказать, одну большую и отсталую провинцию по отношению к искусству европейскому, терпеливо заучивая и исполняя «ихние» уроки. А заодно присваивая себе европейских мастеров, которые со времен Фиораванти так и продолжали с удовольствием приезжать в Россию за длинным рублем по приглашениям императорского двора и знати, становясь частью именно русского искусства. Которое нельзя представить не только без совсем уже обрусевших Бартоломео (Варфоломея) Растрелли или Карла Росси, но и без вполне европейских Кваренги, Камерона, Фальконе, Ротари, Вуаля.
Русское искусство «нашло себя» именно в качестве русского у Венецианова, родоначальника бытового жанра; у него же впервые мы видим специфически русские и столь любимые потом многими пейзажистами ландшафты, равнинные, с бледненьким небом, редкими деревцами и одинокими сарайчиками. Венецианов, выросший в Москве, служивший в Петербурге и уехавший в 1819 году жить в имение Сафонково Тверской губернии, только став в житейском смысле провинциальным помещиком смог «выговорить» в искусстве то, что на десятилетия определило развитие и русского жанра, и русского пейзажа. Можно, конечно, сказать, что он попросту писал то, что видел, свободный от столичных академических канонов и следуя сформулированному им методу «ничего не изображать иначе, чем в натуре является». Но это не так. Работы Венецианова совершенно лишены конкретных примет времени, словно художник, уехавши в провинцию, переселился туда, где время течет и отсчитывается совершенно по-иному, чем в российских столицах, и жизнь выглядит точно так же, как и столетия назад. Примерно то же можно сказать и о пейзажах и интерьерах венециановских учеников.



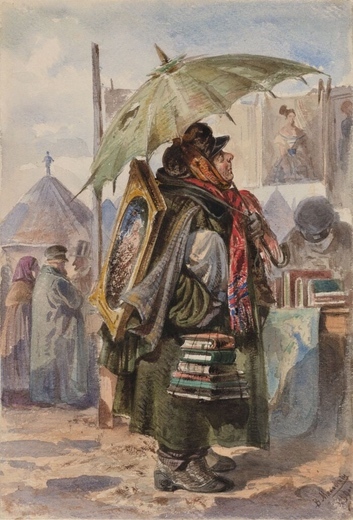
В известной мере эта особенность — не просто разница в качестве, уровне, условиях жизни в столицах и провинции, но как будто и разница во времени, исчисляемая десятками лет или вообще не поддающаяся исчислению, — вообще свойство российской действительности. В 1916 году Максимилиан Волошин замечал: «В одной научной фантазии Фламмарион рассказывает, как сознательное существо, удаляющееся от земли со скоростью, превышающей скорость света, видит всю историю земли, развивающейся в обратном порядке и постепенно отступающей в глубину веков. Для того чтобы проделать этот опыт в России в середине XIX века (да отчасти и теперь), вовсе не нужно было развивать скорости, превосходящей скорость света, а вполне достаточно было проехать на перекладных с запада на восток, по тому направлению, по которому в течение веков постепенно развертывалась русская история». В русском искусстве XIX — начала ХХ века провинциалов было очень много. Собственно говоря, русские мастера первого ряда большей частью были родом из самых разных углов Российской империи, и в этих углах они и получали свои первые художественные впечатления и навыки, а уж затем, часто когда им было за двадцать, отправлялись покорять Москву и Питер с их Академией художеств и Московским училищем живописи, ваяния и зодчества. Кстати, издавна существующая оппозиция между «большой деревней» Москвой с ее «вольнолюбивым» духом и «казенным», «придворным» Петербургом проявлялась, конечно же, и в искусстве — скажем, в сложении именно в Москве малого, или анекдотического жанра, близкого пьесам Островского (Владимир Маковский, Прянишников, Неврев), в пейзажных предпочтениях (москвичи Саврасов и Поленов с их «уголками» и «двориками» и петербуржец Шишкин с его панорамами, например. Кстати, Шишкин был родом из Елабуги). Про то, что художники-москвичи терпеть не могли тогдашнюю петербургскую казенщину, существует довольно много занимательных мемуарных свидетельств. Например, Яков Минченков рассказывает, что Владимир Маковский «дослужился до высоких чинов и должен был носить даже какой-то мундир с белыми брюками, но, по правилам Товарищества [передвижников], не надевал никаких знаков отличия… Президент Академии князь Владимир раз шутливо заметил Маковскому: «Вы уже, кажется, “ваше превосходительство”, а почему не в белых штанах?» — «В сем виде, — ответил Владимир Егорович, — я бываю только в спальне, и то не всегда». И в пандан к этому анекдоту — другой, рассказанный Николаем Ченцовым о Сурикове, которого князь Щербатов пригласил к себе на прием. В приглашении приписка: «Дам просят быть в вечерних туалетах, мужчин во фраках». Художник в бешенстве: «Им мало Сурикова! Им подавай его во фраке!» Вложил в коробку фрак, приложил свою визитную карточку и отправил все это князю Щербатову.
Именно Суриков, родом из казаков, выросший в Красноярске, — самый яркий пример того виртуального «путешествия во времени», о котором писал Волошин. Едва ли не все мемуаристы хором свидетельствуют, что Суриков был воистину современником и Ермака, и Разина, и боярыни Морозовой, «очевидцем истории». Подробности быта, в котором вырос художник, относятся действительно к какой-то другой исторической эре: выбитый стрелой (в середине XIX века!) глаз у суриковского прадеда, кремневые ружья, костры на сторожевых вышках для защиты от разбойников, слюдяные окна, публичные казни, которые Суриков мальчиком наблюдал из окна школы, — черный эшафот, красная рубаха палача.
Далеко не всегда, разумеется, жизнь и формирование художника в провинции влияли на его искусство. Василий Перов, например, родился и провел детство тоже в Сибири, в Тобольске, учился в Нижнем и лишь в 19 лет приехал в Москву. Но все это отнюдь не влияет ни на его искусство «критического реалиста», ни на его судьбу, и ничего не объясняет. То же можно сказать и о Репине, родом из Чугуева близ Харькова, и о Крамском, который служил писцом в Острогожске Воронежской губернии, а потом несколько лет ездил по Центральной России в качестве ретушера у фотографа Данилевского. То, что «Христа в пустыне» писал бывший ретушер, — видно, достаточно рассмотреть, как заштрихован фон картины. Но то, что его писал провинциал из Воронежской губернии, ничего к этой картине не добавляет, как и к искусству Крамского в целом.
И все же взаимосвязь между искусством мастеров XIX века и их происхождением из тех углов российской провинции, где время существует в ином измерении, есть и заметна очень у многих. Все-таки Перов, Крамской, Репин были прежде всего живописателями злободневной, сиюминутной современности, сами являясь в какой-то мере ее воплощением. Но сколь многие, осознав себя в качестве художников вдалеке от этой злободневной современности, продолжали хранить в своих работах эту отстраненность, углубленность в другое хронологическое и пространственное измерение.
Об «очевидце истории» Сурикове уже говорилось. Виктор и Аполлинарий Васнецовы из Вятки, получившие первоначальное образование в духовном училище, стали один всем известным «сказочником», а другой — историческим пейзажистом, археологом, охранителем старой, древнерусской Москвы. Андрей Рябушкин, сын крестьянина-иконописца из Тамбовской губернии, облюбовал себе в живописи узорчатую бытовую повседневность русского XVII века. А вот фрагмент воспоминаний Михаила Нестерова об уфимском детстве: «Отсюда и село Богородское видно! Там в двух шагах и мужской монастырь, где спасаются десятка два стариков-монахов, рыболовов. Какие дали оттуда видны! И такая сладкая тоска овладевает, когда глядишь в эти манящие дали! Хорош божий мир!» Вот, пожалуйста, готовый «сценарий» абсолютного большинства нестеровских дореволюционных работ про монашескую Русь и русскую природу как видение «земного рая». Патриархальная Русь Бориса Кустодиева тоже родом из города его детства и юности — Астрахани, оживленная торговая жизнь которого дала художнику запас впечатлений, составивших основу его «ярмарочных» картин. В произведениях много жившего и работавшего в Саратове Борисова-Мусатова «мечтательный ретроспективизм» и «вообще красивая эпоха» (по выражению современной ему критики) навеяны поэзией старых саратовских усадеб. А его художественный опыт был подхвачен другими выходцами из Саратова, творчество которых иногда объединяют понятием «саратовская школа». Это, например, Павел Кузнецов с его «Киргизской сюитой», воссоздающей спокойное, размеренное течение жизни кочевых народов в Заволжье и беспредельный простор пронизанных солнечным светом степей — картины «Киргизской сюиты» возвращают к ощущению никак не конкретизированного, растворенного во времени бытия, которое было свойственно когда-то крестьянским жанрам Венецианова. Это также Кузьма Петров-Водкин с его апелляциями к древнерусской иконописи и живописи кватроченто.
Русский авангард, кстати, тоже имел провинциальные корни. «Кубизм — вещь хорошая, но не совсем новая. Скифские каменные бабы, крашеные деревянные куклы, продаваемые на ярмарках, — те же кубистические произведения», — заметила некогда Наталия Гончарова. Ларионово-гончаровские кубизмы и примитивы (Ларионов, между прочим, родом из Тирасполя, а Гончарова — из-под Тулы, причем Ларионова за художественное «бунтарство» трижды выгоняли из Московского училища живописи) имеют своим источником русское народное и наивное искусство, уходящее корнями в глубь веков, — то, чего пресыщенные французы Пикассо или Гоген искали у африканских племен или на Таити. А Россия так устроена, что в ней «всё есть». Даже четвертое измерение.




