Мадина Тлостанова: «Мы все в одночасье стали маргиналами с концом советской эпохи»
Культурная ситуация в России в девяностые годы все чаще оказывается в поле зрения художников и кураторов. В этой связи «Артгид» решил поговорить с Мадиной Тлостановой — доктором филологических наук, профессором Линчёпингского университета, участницей программы «Долго и счастливо (вариации на тему счастливого финала)», которая должна была пройти в рамках первого сезона ГЭС-2 «Санта-Барбара». Она рассказала о постсоветском периоде истории и его особенностях с точки зрения деколониальной мысли.
 Мадина Тлостанова. Courtesy автор
Мадина Тлостанова. Courtesy автор
Татьяна Сохарева: Тема нашей беседы — постсоветская идентичность. И мой первый вопрос: насколько этот конструкт вообще релевантен? Какие смыслы мы вкладываем в него сегодня? Существует ли некая универсальная постсоветская идентичность, или она давно распалась на множество локальных историй и идентичностей?
Мадина Тлостанова: Вы совершенно справедливо заметили, что постсоветская идентичность — это конструкт. И как любой конструкт, это понятие страдает некоторым упрощенчеством, унификацией и не всегда оправданным стремлением к обобщению. С другой стороны, рассуждающие на эту тему комментаторы нуждались в некоем термине, позволяющем хоть как-то определить многообразный, но в чем-то пересекающийся опыт людей, родившихся и выросших в СССР и в странах бывшего СССР, включая Россию. Причем определить не с помощью запущенного на Западе пропагандистского термина, который явственно связан с холодной войной, — «посткоммунизм» или в лучшем случае «постсоциализм». Проблема с этими чужими определениями нас в том, что они чаще всего сугубо временные. Постсоциализм для них — время после социализма, и это, по сути, хоронит заживо всех, кто продолжает жить в постсоциалистических странах. Соединение слова «постсоветский» со словом «идентичность» является в какой-то мере попыткой избежать таких преждевременных похорон и показать, что постсоветское — это еще и про людей и разнообразные пространства. То есть речь о попытке контестации в условиях насаждения тотальной неолиберальной капиталистической модели, о голосе того, кто перестал существовать для мира извне с уходом последней «великой» социальной утопии XX века. Я все это говорю не с тем, чтобы защитить или оправдать подобную позицию. Для меня постсоветский — не ностальгия по советскому и не попытка его возродить, не травма советского и не способ ее изжить. Хотя такие позиции тоже возможны. Это скорее констатация нашего общего человеческого удела, его специфической конфигурации, которую мы не в силах изменить. Это наша историческая траектория, какие-то вещи, которые навсегда останутся в памяти, в сознании, и любой новый опыт все равно будет накладываться на эту историю, чаще безрадостную. И это не хорошо и не плохо, но игнорировать такую специфику неправильно. Само слово «идентичность» — устаревшее понятие. Идентичность процессуальна. Нужно было бы говорить об идентификации — текучей, подвижной, множественной, неокончательной, — а не об идентичности как неком фиксированном состоянии. Его, конечно, нет. Мы всегда были разными внутри пространства, которое называлось СССР. Эти различия очень важны, может быть, даже болезненно важны сегодня, поскольку не проработаны в достаточной мере. А вот наш образ для мира извне — уже другой вопрос.
Много лет назад в рамках постколониальной теории сходные процессы обобщения и упрощения ради общей повестки дня получили название стратегического эссенциализма. Они рассматривались в отношении представителей мирового Юга, тогдашнего третьего мира. В нашем же случае это означает, что мы прекрасно осознаем, что мы все разные и в рамках советского проекта имели разные роли и разные права. Мы были встроены в определенные иерархии, не в последнюю очередь этно-расовые, а не только идеологические или классовые. Более того, сегодня внутри самого постсоветского контекста различные группы пытаются акцентировать именно различия. Тем более налицо центробежные тенденции. С каждым новым поколением связь с советским опытом становится все условнее для внутренней самоидентификации. Но в определенных ситуациях, когда наше человеческое достоинство и право на существование в качестве постсоветских субъектов нивелируются извне, многие полагают, что нужно временно, стратегически эти различия не замечать — для того, чтобы наш опыт советской модерности и постсоветского несуществования для мира не сбрасывался со счетов, а критически осмыслялся. Чтобы мы не интерпретировались в рамках логики проигравшей расы, если воспользоваться американской терминологией в отношении коренных народов в XIX веке.

Татьяна Сохарева: Если попытаться выделить составляющие этого понятия, актуальные для большинства людей на постсоветском пространстве, что это будет?
Мадина Тлостанова: Наверное, все же нет составляющих, которые были бы актуальны для большинства. Мы говорим о нелинейном процессе, о непрерывном перетекании идентификаций друг в друга, об их интерсекциональном взаимодействии. Мне кажется, важным аспектом постсоветского состояния является промежуточность — тот факт, что мы не можем примкнуть ни к мировому Северу, ни к мировому Югу. Это связано именно с отменой советского варианта модерности — с тем, что раньше мы были так называемым вторым миром. При всех недостатках государственного социализма мы имели доступ, как это ни чудовищно прозвучит для многих прозападных аналитиков, к определенным правам, благам, уровню модернизации. И становиться третьим миром мы просто не хотим. Да и по объективным показателям мы, конечно, пока не мировой Юг. Но и мировой Юг тоже не считает, что мы вправе к нему примкнуть. Наши голоса оказываются в очередной раз не услышаны, а мнения — отвергнуты. Это происходит там, где идет некое распределение ролей — интеллектуальное, культурное, художественное. Иногда это выражается в болезненном соперничестве, когда мировой Юг полагает всю советскую историю слишком модерной и слишком европейской — с этой точки зрения, мы не имеем права доступа к репарациям, связанным с колониализмом. В Восточной Европе тоже видно очень похожее негативное соперничество с бывшими колониальными иными чужих империй. Отсюда, например, отказ принимать беженцев с Ближнего Востока в бывших европейских социалистических странах. В сфере искусства это выражается, в частности, в том, что чем экзотичнее и дальше от евромодерного центра инаковость, тем легче ее упаковать в качестве постколониального товара и «продать». Повсеместные откаты в национализм, расизм, популизм, мизогинию, мигрантофобию и правые идеологии, увы, также характерны для всего постсоветского пространства. Они нередко обладают постколониальным шлейфом, но обычная ситуация взаимоотношений империи и колонии здесь значительно усложняется — в основном за счет умножения имперских и колониальных сущностей: российских, советских, евромодерности с ее темной колониальной изнанкой, имперского и постимперского соперничества и т. д. Это еще один тревожный знак времени, сигнализирующий об окончательном крахе упрощенной радужной модели глобализации и общего неолиберального вечного настоящего, которая была сфабрикована в начале 1990-х годов.

Татьяна Сохарева: В своих материалах вы часто упоминаете понятие «колониальная рана». В чем она выражается для постсоветского человека в первую очередь?
Мадина Тлостанова: Я не думаю, что это понятие обязательно актуально для всех постсоветских людей. Колониальная рана — определение Глории Ансальдуа, сформулированное в отношении ее собственного опыта пограничности между США и Мексикой, опыта жизни на границе, где «первый и третий мир трутся друг о друга». В результате возникает эта рана, которая «постоянно кровоточит». Такой опыт, несомненно, характерен для многих постсоветских людей, однако не для всех. Это опыт коренных народов, подвергшихся насильственной советской модернизации, а в сегодняшнем контексте — стиранию и невидимости, экстрактивизму, который касается не только полезных ископаемых, но и культуры, языков и космологий. Это опыт этнонациональных сообществ — как ставших независимыми, так и тех, что являются частью РФ. Там эта рана не заживает и активно критически осмысляется. Последнее характерно, например, для Северного Кавказа, Татарстана, народов Дальнего Востока и Крайнего Севера. В этом случае травма советской модерности углубляется и расширяется посредством колониальных и неоколониальных обертонов. На мой взгляд, государственная и региональная культурная политика должны перестать замалчивать эти моменты, перестать притворяться, что у советской и постсоветской истории нет колониальной изнанки.
Татьяна Сохарева: Почему, на ваш взгляд, художественное осмысление ситуации начинает происходить только сейчас, а поколение художников девяностых и нулевых в основном предпочитало работать с максимально широкими контекстами, не касающимися своего прошлого?
Мадина Тлостанова: Об этом надо спросить самих художников. Мне кажется, это слишком приблизительное обобщение. Да и само противопоставление широкого контекста и сложного прошлого мне кажется не вполне правомерным. Далеко не все художники следовали логике широкого контекста. У кого-то, вероятно, были иллюзии по поводу возможности врастания в мировой художественный рынок — и того, что постсоветское состояние будет преходящим опытом, после которого мы вырастем до чего-то более взрослого и универсалистского. Немаловажным являлось и тяготение глобальных эстетических трендов 1990-х к совершенно другим проблемам и формам. Художникам, желающим им соответствовать, тоже приходилось следовать этой моде. Внутри постсоветских обществ популярными были изготовленные на Западе идеи транзитного общества, которые в очередной раз навязывали нам модель догоняющей модернизации и обещали, что как только мы исправимся, сотрем из памяти свою советскую неправильную модерность и начнем жить в единственно верной парадигме, то будем приняты миром на равных. Но этого не произошло. И, надо добавить, не может произойти, пока существует мировая система в ее сегодняшнем неолиберальном изводе. Это в первую очередь касается тех художников, которые напрасно стремились стать мировыми — без уничижительного геополитического определения.

Но были, например, художники из бывших советских республик, и в их случае действовала совсем другая логика. Все советское время им запрещалось заниматься национальным искусством — только в спущенных сверху формах. В 1990-е годы они обратились к деколониальному эстезису (согласно определению автора, это «способность к чувственному восприятию, ощущениям и сам процесс чувственного восприятия: визуального, тактильного, слухового, вкусового и т. д.». — Артгид), заново открывая свои культуры, космологии, символы, нередко уходя прочь от современности. И в этом прекрасно сочетались широта контекста и сложное прошлое. А в 2000-х годах те же художники, наоборот, стали возвращаться к социальной реальности и современности. Если мы посмотрим на литературу, то там осмысление постсоветского удела происходило как раз в 1990-е годы, а к 2000-м сошло на нет. Литература этим уже переболела и переключилась на другие темы. Мне кажется, проблема здесь в интерпретации — в том, что критика и теория лишь недавно доросли до понимания этих вопросов и начали все это видеть в искусстве. Но подобная рассинхронизация — не вина художников или писателей. Они-то в этом смысле опережают теоретиков.
Татьяна Сохарева: В первые два десятилетия после развала СССР положение культурного центра мира (по крайней мере, для людей, связанных с искусством) определялось мегавыставками — такими, как Документа, Берлинская и Венецианская биеннале. Что можно назвать ориентиром сейчас?
Мадина Тлостанова: Специально я никогда не занималась динамикой международной выставочной жизни, и для меня культурный центр мира вряд ли определяется биеннале. Но мне кажется, что не надо ни с кем соревноваться, надо просто делать свои выставки. Если они будут хорошие, если у них будет свое собственное лицо, если они не будут копировать зарубежные форумы (в деколониальной логике — если они изменят сами условия разговора, а не только его содержание), то у них обязательно найдется своя публика, свои художники и кураторы. Все же за последние годы произошли некоторые сдвиги, и однополюсный мир — в том числе в ценностном и эстетическом смысле — сменился на хаотическое и во многом пока еще агрессивное, чреватое конфликтами, но гораздо более разнообразное пространство. Появились биеннале в Шардже, Dak’Art в Сенегале, биеннале в Кочи в Индии, несколько выставок в Латинской Америке. И Россия здесь, конечно, тоже должна сказать (и уже говорит) свое слово, хотя это и не просто, потому что евромодерность не отдаст свою монополию без боя.

Татьяна Сохарева: В 1980-е и 1990-е годы опыт многих людей, который прежде замалчивался или считался маргинальным, стал видимым и был переоценен.Так, например, случилось с представителями художественного андеграунда. Как это обстоятельство сказалось на мироощущении постсоветского человека?
Мадина Тлостанова: Интерес к маргинальному периодически возникает в культуре — в том числе и в русской, и в советской. Восьмидесятые годы — это всего лишь один пример, причем характерно, что вы назвали андеграунд, который был почти лишен (за некоторыми исключениями) этно-расовых обертонов инаковости и больше касался идеологических моментов. То есть это был спор с советскостью. Меня эта история, признаться, никогда особенно не интересовала, потому что она не интерсекциональна. При этом в СССР уже в 1970-х годах появляются первые ростки этнических ренессансов, которые стали особенно заметны в предперестроечные годы. И это был не только узко идеологический спор, но и несогласие с отрицанием и принижением национальных культур, религий, космологий, традиций, памяти. Это было возвращение к истокам, которые, конечно же, не вписывались в советскую модерность. Но они не вписывались и в модерность вообще —чего чаще всего нельзя сказать об андеграунде, занимавшемся косметическим ремонтом модерности, а не ее полной дезавуацией. Поэтому мне интереснее национальная контестация позднесоветского. Важно, что все это не начинается после конца СССР, а подспудно происходит по крайней мере уже за двадцать лет до его распада. Люди, которые проснулись однажды в другой стране, не были чистыми листами и уже имели определенную чувствительность к неофициальным нарративам и жизненным историям. Но поскольку мы договорились, что никакого общего мироощущения постсоветского человека не существует, то и говорить о влиянии этой ставшей видимой маргинальности на разные группы нужно очень осторожно. Здесь у каждого сообщества своя история и своя траектория.
В этом смысле нас связывает, пожалуй, лишь то, что мы все в одночасье стали маргиналами с концом советской эпохи. Для внешнего мира мы как бы остались в прошлом. И выбраться из этого удела стало возможным только через отказ, через отречение от этого опыта или через его монетизацию в качестве экзотики. Безусловно для определенной части постсоветских людей советское по-прежнему важно. Они с ним активно работают — причем и со знаком плюс, и со знаком минус. Чаще всего это делают люди, сформировавшиеся в советское время, — кстати, нередко представители прежнего андеграунда. На мой взгляд, все это уходящая натура. У них свое временное измерение и своя система координат. Постсоветские же поколения, которые формировались уже в новой реальности, в гораздо меньшей мере соотносятся с советским опытом. И с каждым новым поколением это ощущается все больше. Помимо этого основного для нашей страны нарратива возникает множество новых или забытых и задушенных прежде старых. С другой стороны, появляется и более новое маргинальное искусство уже внутри самой постсоветской эпохи (артивизм разного рода), и оно далеко не всегда соотносится с советским андеграундом. Дело не только во временном отстоянии, но и в том, что теперь есть множество источников и способов получения информации, точек зрения и эстетических моделей. Совершенно необязательно поверять свое творчество и соотносить его с советскими, антисоветскими или постсоветскими дискурсами. Есть другие векторы, извилистые тропы, циклические траектории и т. д. Важно и то, что в целом каждое поколение маргиналов в культуре начинает во многом заново, с чистого листа. Межпоколенческие связи и преемственность, даже просто знание о других здесь не слишком хорошо развиты.
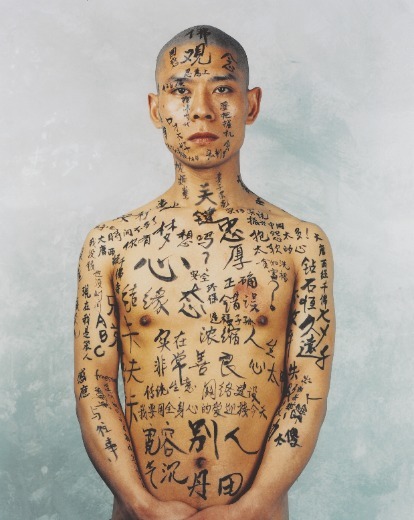
Татьяна Сохарева: Для художественной и литературной среды в позднесоветский период было очень важно разделение на свой/чужой, и во многом этот тип мышления актуален до сих пор. Почему он оказался таким живучим?
Мадина Тлостанова: Я бы не стала это ограничивать позднесоветским периодом или мышлением. Это вообще очень человеческая черта, и я вам могу назвать миллион примеров в современной западной культуре. Просто, вероятно, в позднесоветский период по сравнению с европейским и особенно американским пространством бросалась в глаза некоторая узость художественной культуры вообще и ее сектовость, кружковость. Пространств репрезентации было очень мало, они довольно агрессивно боролись друг с другом и заставляли бороться за признание тех, кто хотел войти в число избранных. Отчасти это связано с тем, что не всеядный рынок с заведомо большим количеством площадок для репрезентации, а совершенно иные соображения определяли то, кого публиковали, кого вводили в канон, кто получал возможность выставляться и т. д. Для антисоветских акторов был характерен негативный вариант этой логики: чужим не доверяли не только потому, что они могли донести, но и потому, что они молились на других, не санкционированных в данном «кружке» идолов. А в ряде случаев и потому, что соперничали за западное внимание и признание. Последнее, кстати, никуда не делось и сегодня. Но опять-таки, это не специфически советская черта. Нездоровая соревновательность за лучшее место под солнцем и более высокий статус — основной двигатель модерности и основная форма почти добровольного подчинения человека ее логике. Здесь разделение на своих и чужих работает безотказно.
Татьяна Сохарева: Как на процесс формирования постсоветской идентичности повлияла навязываемая сверху конфронтация с западным миром — и в то же время фетишизация запада в интеллигентских кругах?
Мадина Тлостанова: Мы с вами договорились, что постсоветская идентификация в первое десятилетие после распада СССР — это одна история, а сейчас — уже совсем другая. Навязываемая конфронтация с западным миром в своем последнем изводе — это сравнительно новое явление. Еще в 1990-х и даже ранних 2000-х годах ничего подобного не было. Фетишизация Запада — очень старая, можно сказать, хроническая болезнь отечественной интеллигенции. Ей несколько веков. Причем, как известно, заигрывание с Западом многократно перемежалось с антизападными настроениями. На эту тему написано несколько хороших культурфилософских текстов, объясняющих российские метания в данной области. Исходя из деколониального подхода, это можно назвать проявлением имперского различия, комплекса империи — двуликого Януса. Проигравшая более сильным и успешным соперникам в светской фазе модерности Российская империя взрастила причудливый комплекс неполноценности перед этими самыми успешными соперниками. Проявился он сильнее всего именно в культуре и в системе производства знания в целом. Отсюда и странная любовь-ненависть к Западу. Но советская интеллигенция, обожествлявшая Запад и мало что о нем знавшая, в силу естественных причин сегодня сходит со сцены или уже сошла. Вместе с ней уходят и определенные вкусы, пристрастия, которые были очень тесно связаны со специфическим позднесоветским опытом. Отсюда и девальвация понятий, украденных в СССР официальным дискурсом (солидарность, интернационализм и прочие), и отрицание любых левых и освободительных идеологий — в том числе культурных. В 1990-е вся эта позднесоветская закваска по инерции еще сильно ощущалась. Сегодня тоже есть островки подобного настроя, которые совершенно некритично относятся к либерализму, каким бы он ни был и ни стал сегодня. Они бездумно воспроизводят пропагандистские клише времен холодной войны, занимая позицию Запада и ругая все отечественное, не замечая между ними опасных схождений. В этом, кстати, тоже проявляется тот самый синдром имперского различия и неуверенности. Увы, остается в силе и печально знаменитый российский принцип, что нет пророка в своем отечестве, однако стоит ему уехать на Запад, как он тут же в него превращается. Но, по моим ощущениям, многое изменилось. Появилось одно, а может и два поколения совершенно других интеллектуалов (называть их советским словом «интеллигенция» было бы неверно). Водораздел между ними и остатками прежней интеллигенции, как мне кажется, во многом проходит как раз в отношении к Западу. Я имею в виду, конечно, не квасных патриотов, но скорее людей, которые более трезво и критически, а иногда прагматически смотрят на западный контекст.

Татьяна Сохарева: В одном из интервью вы говорили, что постсоветский опыт во многих аспектах непереводим на язык постколониального дискурса. Почему?
Мадина Тлостанова: В первую очередь потому, что постколониальный дискурс сформулирован в отношении англоязычного и отчасти франкофонного опыта, а ситуация с Российской империей и затем с СССР — другая. Она не была обязательно лучше, но в ней была своя логика, которая не объяснима в рамках англофонной постколониальности. Самое очевидное различие состоит в том, что постколониальный иной пытается стать своим в той системе координат, которая когда-то его поработила, потом позволила стать независимым, а теперь продолжает дисциплинировать и приручать. Но это все та же западная капиталистическая и неолиберальная модерность, а постсоветский иной обесчеловечивается в соответствии с другой логикой. Он изгой, потому что принадлежит к другой ветви модерности, которая проиграла в гонке на выживание и переход из второго мира в третий или вовсе в небытие, в вечный междуизм. Он также не соответствует постколониальной логике медленного, но все же верного «прогресса» со всеми его негативными коннотациями. То есть аналогия не работает именно потому, что этот опыт постсоветский, а не только постколониальный. В нем есть колониальный, неоколониальный, постколониальный и даже деколониальный элементы, но, помимо всего сказанного, он еще и постсоветский. Это другой уровень объединяющего опыта. Советские формы колониальности гораздо более искусные, нежели западные. Они убеждают колонизированного, что на самом деле его освобождают посредством приобщения к советскости. Его прошлое в царской империи часто кодируется как колониальное, а советское настоящее — как постколониальное. То есть постсоветского субъекта поначалу трудно разубедить в том, что он уже якобы достиг состояния деколонизации. Это порождает бездействие, самоуспокоенность, апатию — по принципу, что все уже предоставили сверху. Всех насильственно осчастливили. Постсоветская по времени деколониальность —далеко не первая по счету попытка этнонациональной интеллигенции, активистов, элит эту схему разрушить. Нечто подобное происходило и в годы, предшествовавшие перестройке, и раньше — в первые десятилетия большевизма, когда образованные люди бывших национальных окраин, обманом заманенных назад в империю, осознали, что советская модернизация убивает не только их национальную культуру, но и их собственные варианты врастания в модерность, которые уже наклевывались повсюду, однако были быстро задушены с приходом большевиков.

Татьяна Сохарева: В англоязычном мире уже давно активно идет деколонизация канона — и литературного, и художественного. Придем ли мы к этому в России? И как к этой проблеме подступиться?
Мадина Тлостанова: Это действительно так. Деколонизация канона как осознанная тенденция в англоязычном мире насчитывает по крайней мере сорок лет, а то и больше. Это связано с определенной траекторией разворачивания культурного процесса, если угодно. Политическая деколонизация сопровождается, а затем сменяется попытками художественной деколонизации, что явственно прослеживается в постколониальном романе, в мультикультурной, а затем и откровенно называющей себя постколониальной и деколониальной художественной традиции. Интересно, что развал СССР и крах социалистической системы сыграли определенную роль в этом переходе деколонизации из политики в форму искусства. К 1990-м годам стало ясно, что политическая деколонизация не привела к деколонизации мышления, сознания, воображения, бытия, что постколониальные государства практически все стали неоколониальными. А тут подоспел и крах последней большой социальной утопии XX века — социализма. Ушла вера в возможность скорого воплощения справедливого демократического общества. На этом пессимистическом фоне и возникает деколониальный поворот с его фокусом на эпистемологии и эстезисе, а не политической борьбе. Все это происходит в условиях главенства неолиберализма, превращающего абсолютно все и всех в товар.
Постколониальный товар — это хорошо продаваемая вещь. Отсюда и стремление к коммерциализации подобных продуктов, которой они, впрочем, могут сопротивляться с переменным успехом. Это делают многие постколониальные писатели, художники, используя в своих интересах ту самую коммерческую машину, которая пытается их присвоить. В России долгое время вся эта проблематика вообще отсутствовала в научном или тем более публичном дискурсе. Интерес к постколониальному и к деколониальному — новшество последних нескольких лет. Как все неофиты, те, кто пытается сегодня присвоить и освоить эти дискурсы в России, часто плохо в них разбираются, страдают анахронизмом, путают вещи разного порядка. Но, по-моему, это не так страшно. Потому что деколонизация канона должна быть не спущенным сверху мероприятием, не попыткой бесплодной академии вскочить на подножку уходящего поезда и тоже приобщиться к тому, что они высмеивали еще двадцать лет назад, а скорее чем-то, совершаемым по зову души самих художников, писателей, кинорежиссеров. Это они должны остранить по-прежнему навязываемый нам канон, причем не обязательно с тем, чтобы его уничтожить. Нужно начать видеть его в историческом и культурном контексте, развенчать канон, чтобы парадоксально его сохранить — как симптом, на основаниях не безусловной веры, а понимания, осознания, соучастия, критического осмысления. Однако это требует большей ответственности, которой я не наблюдаю не только в России, но и вообще в мире. Вместе с тем мне не хотелось бы воспроизводить парадигму догоняющего развития: вот, дескать, англоязычные культуры уже это сделали, а мы всё никак. Это снова вколачивает нас в положение вечно догоняющих чужую модерность, в которой нам заведомо отведена маргинальная роль. Как минимум в последние два года я вижу в России достаточно много низовых инициатив, очень активно производящих деканонизацию, и институции, просто охраняющие канон, пока предпочитают их не замечать. Но это уже неважно, потому что авторитет таких институций безвозвратно подорван. Тот образ мира с распределенными ролями, который они себе придумали, давно обнаружил свою картонность.

Татьяна Сохарева: Почему в деколониальных процессах визуальное взяло верх над вербальным, а литература, которая в прошлом всегда была ценностно-образующим институтом, потерпела поражение и застряла в собственном прошлом — в мечтах о «большом русском романе», языке, стилизованном под классику, консервативных жанрах?
Мадина Тлостанова: В принципе это проблема не только деколониального, но и всей культуры последних тридцати-сорока лет. Визуальное действительно превалирует все больше. Культура слова остается в прошлом или работает только для избранных. Безусловно, гораздо легче врасти в культурный рынок, говоря на языке визуальности или хотя бы на синтетическом языке театра или кино. Визуальность — более универсальный язык. Язык, кстати, здесь вообще ключевое слово. Визуальность обращается к публике, минуя естественную преграду языка. А писателю приходится с ней считаться. Каждая языковая традиция порождает свою деколониальную нишу игры с языком, его развенчания, переформатирования его аллюзий. Это по большому счету непереводимая игра. Например, деколонизация англоязычного канона работает лучше всего именно в нем и с ним. То же касается русской литературы и взаимодействующей с ней деколониальной литературы на русском языке, которая находится в стадии становления. При этом писатель не имеет возможности подпитываться от мирового сообщества деколониальных авторов, если не читает на их языках и не переведен на эти языки. А визуальное искусство счастливо лишено всех этих специфических вербальных преград.
Что касается именно русской литературы, то проблему я вижу не только в прежнем литературоцентризме и в том, что литература выполняла роль отсутствующей философии и истории (это, кстати, свойственно и всем колониальным литературам), а сегодня не может спуститься с котурнов, хотя и перестала быть интересной в этом своем качестве. Проблема также заключается в засилье морально отсталой критики и в невежестве издателей, которые просто не могут распознать «иные» тексты. Они не понимают, что в них на самом деле происходит, но при этом определяют издательскую политику, политику литературных премий и т. д. У этой окололитературной среды, как у троллей в «Пер Гюнте», глаз «подскоблен», и они видят «красоту» только там, где способны ее увидеть. Мимо них проходит 90% деколониальных или феминистских аллюзий, что, конечно же, сужает их оптику. Отсюда и все эксцессы, о которых вы говорите: великие романы, приверженность к каноническому языковому варианту или привычным жанрам. Причем, как правило, в герменевтический литературный горизонт этих персонажей включена только русская и советская или антисовесткая литература. Они не знают того, что в советское время называлось зарубежной литературой, и не видят в упор, что русская и советская литературы при всех претензиях на уникальность все равно были частью мирового литературного процесса. Этот квасной патриотизм играет с ними злую шутку. К счастью, в последние несколько лет ситуация стала меняться и намеченный мной сценарий перестал быть тотальным. Молодые писатели, не публикующиеся в толстых журналах и «престижных» издательствах, прекрасно работают с деколониальной проблематикой, языком, понятиями, аффектами. Но у них чаще всего пока своя область репрезентации, которая почти не пересекается с литературным мейнстримом. Сам этот мейнстрим все меньше кому бы то ни было интересен. И поэтому мне кажется, что ситуация быстро меняется и в литературе, и, возможно, мы увидим результаты в ближайшее время.

Татьяна Сохарева: Как действовать художнику, который работает с локальными контекстами, но вынужден осваивать язык и формы западного искусства, чтобы пройти успешную институционализацию? Видите ли вы в этом проблему?
Мадина Тлостанова: Это скорее вопрос нравственного и политического выбора. Художник (да и не только он) должен совершать такой выбор постоянно. Институционализация — это всегда в определенной мере фаустовская сделка. Тем более в мире, где все подчинено неолиберальной оптике рынка, или в отдельных специфических пространствах, где художник находится между молотом рынка и наковальней государства. Есть целый ряд авторов, которые просто не играют в эти игры, осознанно выбирая непопулярность, неуспешность, но не соглашаясь исполнять роль экзотического шута, поставщика развлечений или певца официальной идеологии. Это во многом вопрос того, зачем мы вообще создаем художественные произведения. Для публики, для славы, для Бога, для самовыражения, а иногда, возможно, для спасения себя? Но подобный отказ — скорее крайняя позиция. А в большинстве случаев мы находим некие компромиссы, если у художника нет возможности обратиться к каким-то альтернативным вариантам, к прорехам в логике модерности — иным музеям, галереям и кураторам, придерживающимся других принципов, каким-то подпитывающим подобное творчество локальным сообществам. Компромиссность часто выражается в позиции «трикстера», который притворяется, что следует правилам и трендам, но на самом деле, как и фольклорный трикстер, обманывает и насмехается над авторитетами и канонами, при этом нередко действуя изнутри институций или институционально одобренных форм. Ведь работать с локальными контекстами можно по-разному. Можно воспроизводить навязанные ориенталистские и самоориенталистские шаблоны, упрощающие искусство. Подобные работы обычно нравятся западному зрителю, потому что, с одной стороны, его влечет экзотическая инаковость, а с другой — он в очередной раз убеждается в собственном превосходстве. Но ведь можно сделать и совершенно иную работу, которая будет этот ориентализм ставить под сомнение, возможно, даже издеваться над его упрощенчеством. Можно сделать проект, который к тем самым «локальным контекстам», а на самом деле, к своей земле, к людям, на ней живущим и находящимся с ней в гармоничных отношениях, будет относиться бережно, не выкачивая из них всевозможные элементы инаковости на продажу, а пытаясь услышать, увидеть и понять их надежды, проблемы, мечты, воспоминания. Очень важно и то, что подобные работы, как правило, не ограничиваются навязанным набором приемов, дозволенных этническому искусству. Они находятся в диалоге и в полемике с глобальным художественным контекстом. Они пересоздают и превосходят тренды современного западного искусства, его языки и формы, так что в итоге получается что-то совершенно иное, не вписывающееся в бинарность «современное — этническое (мультикультурное)». Именно так и рождаются альтернативные модели. На мой взгляд, это уже происходит. Как написала несколько лет назад Арундати Рой, «иная вселенная не просто возможна. Она уже спешит к нам. В спокойные дни я слышу ее дыхание».





