Вязаный космос: «В ожидании чуда» Ольги Чернышевой
В Доме культуры «ГЭС-2» проходит одна из важнейших выставок сезона — ретроспектива Ольги Чернышевой «Улица сна». Куратор художественной галереи Уитворт в Манчестере Валентин Дьяконов рассказывает лишь об одной представленной на выставке серии «В ожидании чуда», в которой, по его мнению, отразилась вся суть переходного периода между советской и капиталистической эпохами, между 90-ми и нулевыми.
 Ольга Чернышева. Из серии «В ожидании чуда». 2000. Цветная фотография. Фрагмент. Courtesy автор
Ольга Чернышева. Из серии «В ожидании чуда». 2000. Цветная фотография. Фрагмент. Courtesy автор
В 2000 году Ольга Чернышева сняла серию фотографий «В ожидании чуда». Один из снимков выглядит так: день, вдали — размытый зимний пейзаж, голые ветви деревьев. На первом плане — воротник из искусственного меха, серо-голубой, как московские небеса, в центре — шапка, похожая на цветущий эхинопсис (род круглого кактуса). Ребра у этого носибельного кактуса малиновые, стебель черный. В других снимках серии такая же композиция, меняются лишь шапки и шубы.
Серия возникла из случайного наблюдения во время поездки в троллейбусе. Фотография, сделанная в транспорте, в серию не вошла, и Чернышева ездила в московский парк Сокольники, чтобы снимать стихийные собрания женщин старшего возраста, танцующих под ностальгические песни своей юности. На рубеже веков отношение к спонтанной уличной фотографии было все еще подозрительным: «Если меня замечали с камерой, то разговоры были, как правило, довольно колючие»[1] (как и сами шапки). Эта реакция — наследие советского времени, когда уличный фотограф чаще всего воспринимался с нескрываемым подозрением («За кем он здесь шпионит со своей камерой?»). В своих заметках к серии Чернышева объясняет ее через понятия «сходства и одиночества»: «Они немного как лица в хоре. Все — разные, но поют об одном. О родстве в чувстве одиночества. О том, что состояние цветения не совпадает со временем цветения и все равно не бесконечно». Позже, в неопубликованном интервью, она расширяет смысл серии: шапки «концентрируют в себе видимое и невидимое» и транслируют «желание человека себя украсить, привести в порядок, выстроить свой космос».
Чернышева интуитивно соотносит вязаный головной убор с конструированием фундаментальных космологических мифов. Текстиль — крайне подходящее для такой задачи средство. Историк Элизабет Уэйленд Барбер предлагает назвать эпоху Верхнего палеолита «нитяной революцией» по аналогии с индустриальной революцией XIX столетия, поскольку «простая нитка» невероятно «эффективна в процессе укрощения окружающего мира волей и изобретательностью человека»[2]. Разумеется, и индустриальная революция как таковая непредставима без текстильного производства на фабриках Манчестера и теоретизирования экономически связанных с этими заводами Энгельса и Маркса. На уровне мифа связь текстиля в целом и вязания в частности с историями и повествованиями начинается с трех богинь судьбы Парок в древнегреческой мифологии и видоизменяется вместе с эпохами. В монографии о новейшей истории вязания Джоанн Терни отмечает «текстильные термины в обыденном языке»: паутины «ткутся», сообщества видятся «крепко связанными», и так далее[3].


На ретроспективе Чернышевой в «ГЭС-2» куратор Виктор Мизиано подвесил лайтбоксы с этими фотографиями высоко к полотку. Такое экспозиционное решение читается как отсылка к супрематической выставке 1915 года «0,10» и работам Казимира Малевича на ней, которые устремляются к верхнему пределу пространства и суммируются в «Черном квадрате». Можно увидеть в их расположении и намек на горную гряду, где вязаные шапки превращаются в снежные и идентифицируют собой высшие точки социального ландшафта, интересующего художницу. Мизиано подчеркивает близость шапок к высшим мирам. Возможно, это словно ракеты, устремленные к звездам. Но из чего же соткан космос, к которому они тянутся?
В искусстве Чернышеву интересует ландшафт скудости и бедности. Борис Гройс называет ее героя «человеком Воскресенья» в противоположность «человеку Труда»: ее персонажи «выпали из старых, социалистических устоев жизни, и у них недостаточно денег, чтобы включиться в потребление, соответствующее условиям новой капиталистической экономики»[4]. Это обозначение близко размышлениям историка текстиля Джулии Брайан-Уилсон о «невероятных объемах изделий, созданных теми, кого называют “воскресными художниками”, — словосочетание, в котором уравнивается любительство и неоплачиваемый труд в свободное время»[5]. В серии «В ожидании чуда» экзистенциальный «человек Воскресенья» сливается с «воскресным художником»: досуг за пределами приемлемых в капиталистической Москве форм траты денег пересекается с типом объекта, связанной дома шапкой, лежащей на дне музейной иерархии техник и жанров. У слова «воскресенье» есть, конечно, и религиозные коннотации. Если посмотреть на шапки с точки зрения религиоведения, то выключенные из товарообмена головные уборы становятся чем-то вроде религиозной униформы для ритуального поведения, характерного для мессы или коллективной молитвы. К тому же примеров плотно облегающих голову шапок, маркирующих принадлежность к определенной конфессии (исламу, иудаизму и так далее), немало.






Серия Чернышевой не содержит отсылок к «воскресной» ритуальности, но предпосылки ее создания — вполне: еженедельные танцы в Сокольниках можно считать вариантом насыщенного фундаментальными, «духовными» смыслами досуга. Однако преследовать эту тему не совсем продуктивно, ибо художница не дает нам никакой социологии. Даже наоборот. Это закрытые, самодостаточные снимки, которые ничем не выдают ни отношения автора, ни намека на то, как видят себя фотографируемые. Сама серия маргинальна по отношению к способам съемки одежды и тела на рубеже веков. В двухтысячные годы некоторая стабилизация экономики в России привела к развитию индустрии моды и модной фотографии. Эволюция отношения к фотографированию — то есть принятие, а не «колючее» несогласие, — соотносится с развитием позиционирования личных брендов, привычки к демонстрации конвенциональной или театрализованной версии своего тела. Чернышева в своей серии делает подчеркнуто статичные, «иконичные» кадры, скрывая лица и лишние детали, которые могли бы дать общую картину (соблазнительно изогнутого) тела. Культ молодости и сексуальной привлекательности вынесен за скобки в пользу меланхолических наблюдений за «состоянием цветения» и «временем цветения». Русский Vogue появился в 1998 году, Harper’s Bazaar — двумя годами раньше. Оба издания плюс более молодежные «ОМ» и «Птюч» транслировали эстетику индивидуальной роскоши, в которой не было места «хору», а одиночество меняло знак и превращалось в уникальность, «неповторимый образ», если вспомнить рекламный троп того времени. Социальное расслоение тех лет и привело к тому, что шапки в серии Чернышевой до сих пор ассоциируются с женщинами определенного поколения и достатка. Они выглядят немодно и «совково», а в их владелицах автоматически предполагаются консервативные взгляды и тоска по советскому прошлому.
Шапки определенного фасона и вязание как практика далеко не впервые ассоциируются с сообществами и классами, в которых бедность — фундамент оппозиционных взглядов. Вязаный головной убор, облегающий череп, появляется в социальной истории Европы как пилеус, он же фригийский колпак, шапка вольноотпущенников в древнем Риме, и в какой-то момент — символ демократии и борьбы с тиранией (на монетах, отчеканенных Брутом, убийцей Юлия Цезаря, изображен пилеус и два кинжала). В эпоху Французской революции эта шапка становится частью униформы сторонников самых радикальных перемен. Сфера домашнего труда для себя, не на заказ, почти всегда сопутствовала нищете. Чарльз Диккенс в «Повести о двух городах» пишет о рабочем поселке на окраине: «Все женщины что-нибудь вязали на спицах. Рукоделие было самое дрянное, но этот машинальный труд служил механической заменой пищи и питья; руки были заняты, тогда как нечем было занять желудок и челюсти; если бы эти костлявые пальцы не были в движении, пустые желудки давали бы себя чувствовать гораздо резче». Глобальные кризисы ненадолго выдвигали эту практику на первый план. Во время Второй мировой войны вязание в странах-участницах поощрялось на государственном уровне: множество образчиков пропаганды из США и Великобритании призывают женщин в тылу работать с шерстью ради того, чтобы солдаты не мерзли.
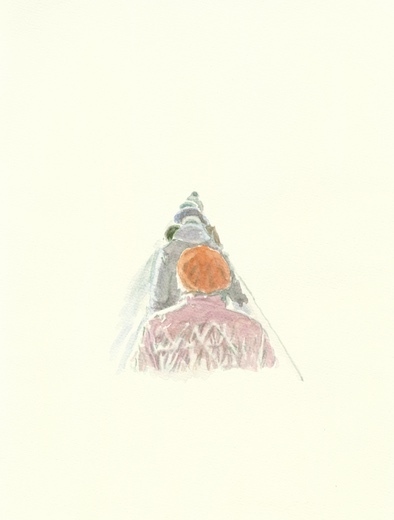
В постиндустриальную эпоху статус вязания меняется. Крючок и спицы — уже не признак покорности судьбе, но инструмент сопротивления, ведь вязаные вещи, как правило, «производятся вне сферы капиталистического трудоустройства, для домашней среды» и становятся частью «моральной экономики — системы обмена, которая существует параллельно миру финансов»[6]. Впрочем, в цитированном выше труде Брайан-Уилсон пишет о «политике текстиля», позволяющей «передать политические сообщения» задолго до индустриальной революции. Первые феминистские движения «крафтивисток» (от слов craft — «ремесло», и activist) расцветают тем не менее в 1970-е. Домашнее вязание производит социальные и культурные маркеры для представителей классов, позиционирующих себя как угнетенных. Это не только женщины, но и сообщества эмигрантов. В своей статье о ручном труде афро-карибской диаспоры в Великобритании куратор Музея Виктории и Альберта Кристин Чесинска изучает фотографию митинга в День освобождения Африки (отмечается 25 мая. — Артгид), снятую в Бирмингеме в середине 1970-х. На ней — множество вязаных шапок, которые стали для афро-карибской диаспоры «социополитическим и культурным высказыванием» в эпоху, когда вязание крючком «почти осталось в прошлом»[7].
Есть ли у шапок в серии Чернышевой отчетливая политическая прописка? В Советском Союзе диссиденты и подпольные художники не использовали шерсть как средство для проекции недовольства властью, а «партии бедности» как отчетливой силы и вовсе не было. Изменился ли политический статус вязаной шапки в эпоху потребления, когда их создательницы «выпали из старых условий жизни»? Чтобы найти ответ на эти вопросы, я погрузился в архивы РИА Новости за 2000 год, отсмотрев сотни фотографий с митингов. Моя гипотеза состояла в том, что на демонстрациях коммунистической партии таких шапок будет больше, чем на демонстрациях за действовавшую тогда власть. Если она верна, то связь шапки и антикапиталистических взглядов действительно существует. В поиске фотобанка обнаружилась забытая политическая вселенная, в которой видны предпосылки современности. На фотографии от 14 марта 2000 года мы видим женщину с плакатом «Если ты подлец и вор, голосуй за договор (СНВ II)» — это митинг против ратификации договора России и США о запрете использования баллистических ракет с отделяющимися головными частями. Договор Россия не подписала. Женщина с плакатом стоит без шапки, но за ней, на заднем плане, есть несколько примеров головного убора, подходящих и для серии Чернышевой.
На фотографии с демонстрации коммунистов 9 мая 2000 года вязаная шапка видна сразу, на женщине справа. Чуть выше и левее — логотип движения «Сталинский блок за СССР», недолговечной альтернативы КПРФ. Митинг происходит поздней весной, и в вязаной шапке, как кажется, нет прямой необходимости. Тем символичнее ее появление на женщине и фотографии. Цвет шапки, бордово-красный, явно дублирует политическую позицию ее владелицы, и даже фасон напоминает о фригийском колпаке. Но это, скорее всего, ложный сигнал. За редкими исключениями, позитивной корреляции обнаружить не удалось. Вязаные шапки встречались с одинаковой частотой по обе стороны баррикад. В отличие от митингов рубежа нулевых и десятых, вестиментарные коды еще не позволяли отличить демократа от коммуниста или консерватора: не было толком ни буржуа, ни креативного класса.
Развитие этих социальных слоев реабилитировало вязание как практику и по рецептам фем-активизма, и в качестве продуктивной медитации. Нынешняя эпоха ручного домашнего труда определяется свежим термином «кибервязание», глобальной сетью единомышленников, как правило, представителей среднего класса, которым эта практика нужна, в первую очередь, для сохранения душевного здоровья. Желание отдохнуть от «официальных» производственных потоков с помощью клубка и спиц аналогично стремлению героинь Чернышевой маркировать персональный космос, буквально связывая одариваемых шарфами и свитерами родственников общим текстилем и нарративом. Но шапки остаются маркером эпохи, благосостояния и предполагаемых взглядов их владелиц: онлайн-сообщества вязальщиков и вязальщиц аккуратно обходят этот вид одежды. В искусстве, правда, встречаются вариации на тему. Например, работы молодой художницы Марианны Абовян, у которой наследие советской вязаной шапки оборачивается импровизационной практикой, порождающей монструозные гибриды на пересечении царства грибов и отряда головоногих моллюсков.
Примечания
- ^ Тимофеев С. О чем хрустит уголь, о чём поют в метро. Российская художница Ольга Чернышева о графике, видео и упражнениях // Arterritory.com. Дата публикации: 02/07/2014. URL: https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/intervju/10913-o_cem_hrustit_ugol_o_cem_pojut_v_metro.
- ^ Barber E. J. W. Women’s Work: The First 20,000 Years: Women, Cloth and Society in Early Times. NY: Norton, 1994. P. 45.
- ^ Turney J. The Culture of Knitting. Oxford: Berg, 2009. P. 135.
- ^ Борис Гройс. В поисках долгого воскресения // Spectate.ru. Дата публикации: 24.05.2020. URL: https://spectate.ru/boris-groys-olga-chernysheva/.
- ^ Bryan-Wilson J. Fray: Art + Textile Politics. Chicago: The University of Chicago Press, 2017. P. 5.
- ^ Ibid. P. 140.
- ^ Checinska C., Harris J. Spinning a Yarn of One’s Own / A Companion to Textile Culture. P. 235–255. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc, 2020. P. 247.




