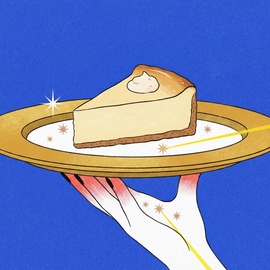Джон Боулт и Николетта Мислер: «Если ты пропагандируешь Филонова — Филонов любит тебя»
Славист Джон Боулт и искусствовед Николетта Мислер с 1960–1970-х годов занимаются исследованием русского художественного авангарда. За это время они вместе и по отдельности издали десятки статей и несколько монографий о вопросах русской культуры, неоднократно выступали в качестве кураторов и консультантов выставок, посвященных художникам авангарда. Искусствоведы Глеб Ершов и Дмитрий Козлов побеседовали с Джоном и Николеттой об их знакомстве с русским искусством, изучении наследия Павла Филонова, подделках и многом другом.
 Павел Филонов. Формула весны. 1922–1923. Холст, масло. Фрагмент. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Павел Филонов. Формула весны. 1922–1923. Холст, масло. Фрагмент. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Глеб Ершов: Джон, в предисловии к двухтомнику «Бегство форм: русское искусство начала ХХ века» вы пишете, что ваш интерес к русскому искусству начался с Блока, с символизма. А в какой момент вы пришли к русскому авангарду?
Джон Боулт: Я не помню точного момента. Для начала надо сказать, что я не искусствовед, никакой тренировки по этой специальности у меня не было. Я учился на славистике — сначала в Бирмингемском университете в Англии, затем получал PhD в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, — где главными сюжетами и темами моего внимания были культура и язык. Так что по воспитанию я литературовед, хотя потом и переключился на искусство. Можно сказать, я открыл для себя символизм через Блока, через такие вещи, как «По вечерам над ресторанами…», которые до сих пор меня очень интригуют. Однажды я обратил внимание на то, что в «Незнакомке» у Блока есть две краски: в начале золото, желтый — «чуть золотится крендель булочной», а в конце синий — «и очи синие бездонные». Я сразу понял, что это противоположные элементы спектра: золото и синева. На базе этого маленького «открытия» я спросил себя: «Интересно, какие еще за этим лежат цвета, живопись, искусство?» Так я пришел к Врубелю, затем к Борисову-Мусатову и другим художникам в антураже Блока.
Глеб Ершов: А где вы видели работы Врубеля?
Джон Боулт: Будучи в Англии — только в книгах. Позже, в 1966 году, я получил грант и приехал в Москву, чтобы заниматься как раз этим контекстом: изоконтекстом Блока и символизма вообще. После, наверное, шести месяцев я зачислился к Дмитрию Владимировичу Сарабьянову — он принял меня как стажера — с тех пор, можно сказать, я и интересуюсь русским искусством. Через Дмитрия Владимировича, которому я во многом обязан, я открыл для себя русское искусство начала века, модерн: это «Голубая Роза», «Мир искусства», Дягилев, Бенуа, Бакст, Сомов.
Если первой любовью стал Блок, то второй — «Голубая роза». Тогда об этом было мало написано, но некоторые свидетели эпохи еще были живы. Например, критик Виктор Лобанов, который в 1907 году видел выставку «Голубая роза». Мы с ним познакомились, он живо рассказывал про Кузнецова, Уткина, Милиоти. Еще я познакомился с некоторыми коллекционерами, у которых были вещи, скажем, Борисова-Мусатова, общался с Юлией Араповой, вдовой Анатолия Арапова, члена «Голубой розы».
И до сих пор я иду по этой дорожке, хотя все-таки считаю себя не искусствоведом, а, может быть, просто любителем (в отличие от Николетты, которая профессиональный искусствовед).

Глеб Ершов: Николетта, а как вы вышли на след русского искусства?
Николетта Мислер: Я начала изучать русское искусство позже. Сначала, учась в университете в Милане, занималась современным искусством вообще. Тогда говорили, что современное искусство — это что-то незначительное, как русский авангард, и не может быть дисциплиной в университете. В Италии не было ни одной кафедры современного искусства. А я все-таки начала им заниматься, потому что Милан в то время, на рубеже 60−70-х, — город очень активный, стильный, туда будто возвращался дух русского авангарда. Были хеппенинги, перформансы: искусствовед Леа Верджине, жена нашего знаменитого дизайнера Энцо Мари, снимала все одежды и презентовала себя нагой в качестве примера боди-арта (в 1974 году в Италии вышла книга «Тело как язык. Боди-арт и другие истории», в которой Верджине одной из первых на итальянском языке дала определение и исследовала историю развития этого направления. — Артгид). Был Пьеро Мандзони, автор работы «Дерьмо художника», тоже очень радикальный.
Потом моя знакомая искусствовед, большой знаток нашего Ренессанса, преподававшая в Риме, позвала меня помогать ей. Я не занималась Ренессансом, но присматривала за студентами, писавшими дипломные работы. Тогда и на фотографию, например, смотрели как на вспомогательную вещь, как на документацию; это сегодня она стала предметом изучения и преподавания. Но это так, просто предисловие.
Потом я опубликовала свою первую книгу — мою дипломную работу о концепции реализма в Италии после Второй мировой войны.
Глеб Ершов: О Ренато Гуттузо в частности?
Николетта Мислер: Да, но я выступала против Ренато Гуттузо, потому что тогда была более левая. Меня интересовали радикальные эксперименты, не такие, как Гуттузо. Книга была опубликована, и Гуттузо и все остальные в компартии высказывались против: «Кто это такой, кто так смеет против наших?»
Потом я поняла, что мне все-таки нужно смотреть источники, эти самые политические радикальные эксперименты и решила ехать в Россию. Важен тот факт, что в Италии в конце 60-х, наверное, больше, чем в любой другой европейской стране, переводили тексты, касающиеся русского авангарда. Компартия была как-то более открыта, публиковала много документов и манифестов, перевели монографию Камиллы Грей, вдова Лисицкого опубликовала его книгу в итальянском переводе, были статьи о Викторе Попкове, которым, между прочим, сегодня очень интересуется наша молодежь.
Так, в 1973 я получила грант и поехала в Россию, не зная русского языка, к сожалению. Меня ждало большое огорчение: выяснилось, что мне не покажут картины авангардистов — Лисицкого, Гончаровой, например. Что мне теперь смотреть? Третьяковская галерея — какие-то темные, коричневые, скучные картины. Ужасно. Зато мы познакомились с Дмитрием Сарабьяновым, хотя моим руководителем он не был. Мне дали как руководителя Кауфмана (Рафаил Самуилович Кауфман. — Артгид), он испугался заниматься мной, иностранкой, и передал меня в руки Ксении Муратовой. Она, конечно, всех знала, и потому я начала смотреть картины у Ангелины Васильевны Щекин-Кротовой, вдовы Роберта Фалька, и другие вещи авангарда — но все это было не совсем то, что я хотела, потому что хотела я радикальный авангард.
Тогда же, в первый приезд — а я приехала на девять месяцев — два месяца я провела в Питере, где познакомилась с сестрой Филонова — Евдокией Николаевной Глебовой. Я тогда еще ничего о нем не знала, и испытала настоящий шок. Я была в ее квартире на Невском проспекте — только одна комната, коммунальная, но большая. Картины Филонова… Хотя было темно, разница с теми работами, которые мне до этого показывали, была очевидна.

Глеб Ершов: Вы помните, какие картины тогда увидели?
Николетта Мислер: Нет, это очень трудно… Сейчас не вспомнить, потому что я тогда видела их впервые, не знала названий. Было общее ощущение: очень трогательно, очень интересно, не просто, и нужно разбираться. Тогда я решила, что буду заниматься только Филоновым. Это было в конце моего первого приезда. Я вернулась туда только в 1976 году, уже намеренно.
Глеб Ершов: Джон, а как вы познакомились с творчеством Филонова?
Джон Боулт: Не помню первого «столкновения» с Филоновым, но я тоже был у его сестры, после Николетты, наверное, в 1974-м или 1975 году. Она тогда жила в Доме ветеранов сцены. Я тоже не помню отдельных картин, но было, как и у Николетты, впечатление какой-то мистики. Обстановка полутемная, висят эти странные картины — не Малевич, не Татлин, не Попова… И сидит сестра, которая говорит про брата. Все это было очень трогательно.
Я не помню, видел ли я Филонова до этого. Наверное, видел и просто не думал о нем глубоко. Но эта встреча, конечно, произвела очень сильное впечатление — я тоже после нее решил заниматься Филоновым. С Николеттой мы тогда не были знакомы. Этот интерес появился у нас параллельно, отдельно друг от друга.
Глеб Ершов: А когда же ваш интерес соединился?
Джон Боулт: Это интересный вопрос. Николетта часто бывала в Москве у Дмитрия Владимировича Сарабьянова, и я тоже, но, как ни странно, у него мы никогда не встречались. Дима мне часто говорил: «Джон, знаешь, здесь есть итальянка такая, Николетта зовут. Она очень интересуется Филоновым. Не хочешь встретиться с ней?» А я отвечал: «Нет, не хочу». Возможно, это звучит глупо, но, понимаете, я родился в 1943 году в Лондоне и воспитывался в семье, у которой врагами считались немцы и итальянцы — нацисты и фашисты. Поэтому в Москве мы никогда не встречались. Но я решил написать монографию о Филонове, и, не помню как, Николетта об этом узнала.
Николетта Мислер: Потому что ты все время говорил: «Я сейчас пишу…» Хотя на самом деле ничего еще не писал.
Джон Боулт: Да, я еще тогда не писал, но публично — в статьях, в разных местах — уже упоминал.
Дмитрий Козлов: Не знали, что у вас есть ревнивица.
Джон Боулт: Николетта — она территориальный человек.
Николетта Мислер: Я работала как сумасшедшая!
Глеб Ершов: И вы решили узнать, кто это…
Николетта Мислер: Это тоже странная история. В мой второй приезд в Русском музее уже ничего нельзя было посмотреть. Меня и в первый-то раз не пустили к авангарду. Но в конце концов две-три картины я увидела, что-то мне показали в кабинете гравюры у Евгения Федоровича Ковтуна (искусствовед, исследователь русского авангарда. — Артгид). Забыла что именно, но помню «Мать» Филонова — прекраснейшая вещь.
В общем, так как доступа к картинам не было, но у меня сохранилась связь с Евдокией Николаевной, я решила, что буду заниматься его письмами и архивом. Собрала большой материал в ЦГАЛИ, сидела там и читала. Пока он [Джон] там что-то о себе думает, я буду работать. Я писала книгу и предложила ее одному из наших издательств.
Джон Боулт: Книгу теоретических материалов на итальянском языке.

Николетта Мислер: У нас не было фотографий, потому что, к сожалению, не разрешали не только смотреть, но и фотографировать. В это время, в 1981 году, открылась выставка «Москва — Париж. Париж — Москва». Мы знали, что там есть три или четыре картины Филонова, и мой итальянский издатель решил, что я могу их сфотографировать… У меня был контакт и как-то, в обеденный перерыв, когда все было закрыто, меня туда пустили. Мы начали фотографировать «Формулу петроградского пролетариата». Я решила, что надо снимать по частям, и тогда будет хорошо понятно, о чем Филонов пишет. Я вернулась обратно в Милан, закончила книгу, уже были готовы гранки — и вдруг наш издатель обанкротился. По закону пришлось все выбросить. Но книгу я уже написала, и что делать?
Джон Боулт: Я тогда жил в Техасе. Летом 1981 года ко мне приехала Николетта с сестрой. Встреча была приятной, добродушной, и мы решили сделать книгу вместе, правда, все-таки монографию.
Дмитрий Козлов: Вы как-то поделили, что делает каждый?
Джон Боулт: Николетта — искусствовед, теоретик, а я в кавычках славист, поэтому, возможно, тогда лучше знал русский язык. Надо было собрать вместе материалы, которые мы имели, и все это перевести на английский язык. Так вот мы и работали. Постепенно пишем, собираем материалы. Николетта вернулась в Италию, я остался в Америке. Тем же летом 1981 года я подавал на грант, чтобы осенью поехать в Москву заниматься русским авангардом. Грант я получил, готовился ехать, но Советская армия вошла в Афганистан, и все обмены между Америкой и Россией были ликвидированы. Тогда меня спросили: «Джон, деньги у тебя есть, но куда ты хочешь? В Москву нельзя». Я решил поехать в Париж, потому что у меня тогда снова возник интерес к русской эмиграции в Париже. Николетта приехала ко мне, чтобы продолжить нашу работу над Филоновым. Мы продолжили и, так сказать, влюбились там в Париже. И с большим энтузиазмом решили завершить этот труд, но издателя нет!
Николетта Мислер: Никто не хотел Филонова. Это не Кандинский, не Шагал, даже с Малевичем было трудно.
Джон Боулт: Да, тогда на Западе имя Филонова не имело резонанса. И тут, забыл как, мы познакомились с одним врачом, он издавал медицинские книги.
Николетта Мислер: Говорим с ним о Филонове, он просит: «Ну, покажите мне репродукции». Кое-какие фотографии у нас были. Он посмотрел, влюбился и говорит: «Давайте я сделаю». Так он, этот самый врач, и издал нашу монографию в 1983 году.
Джон Боулт: Фантастика! Так что книга вышла, и мы решили, что если ты пропагандируешь Филонова — Филонов любит тебя.
Дмитрий Козлов: «Герой и его судьба» — название книги вы взяли из его работы? Вы тогда уже видели эту картину?
Николетта Мислер: Да, конечно. Репродукция была, например, в чешской монографии Яна Крыжа.

Глеб Ершов: Вы долго занимались Филоновым и сделали много открытий. А что бы вы посоветовали человеку, который начинает изучать Филонова сейчас? На что интересно обратить внимание? Есть еще какая-то перспектива исследования?
Николетта Мислер: Есть, пока не найдется то, что он писал до 30-х годов: его дневники или даже записи его сестры… Все то, что мы знаем про Филонова, начинается в 30-е. А там есть какая-то самоцензура. Очевидно, дневники он вел и раньше — этот вопрос опять возник, когда мы публиковали статью об иконе Святой Екатерины. Мы искали всяческие семейные связи и поняли, что, видимо, у него была другая семья, очень культурная, не такая простая, как он о ней говорит.
Глеб Ершов: Да, вроде бы он не был сыном извозчика: его отец служил в типографии — кажется, наборщиком.
Николетта Мислер: Я уверена, что есть и более ранние дневники, которые он сам, может быть, и уничтожил. Он или его сестра, которые были просто напуганы: три члена их семьи — двое детей жены и муж Евдокии Николаевны — погибли в лагерях.
Джон Боулт: Еще мне интересны его путешествия, хочется пройти по его стопам: в Италии, во Франции, в Германии. Мы знаем, что он был в этих странах.
Глеб Ершов: Ирина Пронина нашла сюжет о том, как он работал в витражной мастерской Луи-Жозефа Шульца в Лионе[1]. Но, действительно, в остальном все покрыто мраком: где он был, что видел.
Джон Боулт: К сожалению, как вы сами знаете, информации мало, очень мало.
Глеб Ершов: А у вас есть ответ, почему Филонов так и не стал героем русского авангарда наряду с Малевичем, Татлиным, Гончаровой и Ларионовым? Почему он на Западе по-прежнему оказывается таким не скажу, что маргинальным, но каким-то особенным мастером, к которому трудно найти подход?
Николетта Мислер: Потому что он не простой, я думаю. Легко смотреть на черный квадрат и философствовать о том, что Малевич разрушил все пространство картины. Для этого не надо знать русский язык. Хотя у него интересные и важные тексты (которые, правда, надо читать на русском), но все равно говорить о нем можно и без этого. А о Филонове нельзя так просто говорить, к нему нет одного ключа, который сразу раскрывал бы все.
Дмитрий Козлов: И еще Филонова все-таки нужно видеть, а его очень мало показывают. Никакого другого художника не надо видеть так, как Филонова. В репродукциях он теряет, конечно.
Николетта Мислер: Я думаю, что у него есть очень разные периоды и надо исследовать каждый отдельно. Когда делают выставки Филонова, включают все. Я много раз предлагала Евгении Николаевне Петровой (искусствовед, заместитель генерального директора Русского музея по научной работе. — Артгид): давайте сделаем выставку только символистских работ, которые очень красивы, очень… Потом как раз революционный период, потом 30-е годы, в которых, ничего не поделаешь, есть какой-то упадок.
Джон Боулт: Я думаю, вы правы в том, что на Западе почти нет Филонова. В частных или музейных коллекциях есть и Малевич, и Лисицкий, и даже Клюн, Попова, а Филонова почти нет, и поэтому зритель просто не может на него смотреть.
Глеб Ершов: Как вы считаете — эта идея, конечно, кажется немножко безумной, — но возможно ли создание музея Филонова?
Джон Боулт: Музей Филонова — прекрасная идея. Давай сделаем! Нужно найти врача.

Глеб Ершов: В своей книге вы пишете, что все наши художники — ваши герои — пришли бы в ужас, если бы узнали, что существуют под одной шапкой «русский авангард». Что это понятие более позднее, возникшее отчасти в связи с необходимостью включить работы художников в рынок, создать некий бренд. С другой стороны, это было удобным, как сейчас принято говорить, зонтичным понятием, чтобы собрать самые разные имена.
Но если вынести за скобки термин «русский авангард» и попытаться понять, что же все-таки объединило этих художников, почему мы относим их к какой-то одной сфере явлений? Что произошло в России в 1900-х годах, позволив появиться целой плеяде художников, которые совершили революцию в искусстве? Почему Малевич, Филонов, Татлин, Ларионов — они же с разных сторон двигались, каждый к своей цели — вдруг обрели какой-то новый горизонт зрения?
Николетта Мислер: Я думаю, их объединяли общие враги — Бенуа или кто-то еще, кто критиковал, общество в целом. Но они сами не хотели объединяться, все время ссорились между собой, не любили друг друга. Поэтому, когда я писала свою первую общую статью про русский авангард, я писала «русские авангарды» — во множественном числе. Там было много разных течений одновременно.
Джон Боулт: Да, ты права. Я думаю, что это все-таки связано с общей трансформацией России в начале века: авангард не только, скажем, в живописи, но и в бизнесе (ваши купцы — это вообще авангард!), танце (про который Николетта все знает[2]) и, конечно, науке. Биология, астрономия, первые ракеты Циолковского — в начале XX века происходит бум. Поэтому так называемый русский авангард, эти наши художники, были просто членами нового общества, отражали фундаментальные изменения.
А может, было и какое-то странное предчувствие конца и начала, потому что в 1905 году у Сергея Дягилева в Петербурге открывается знаменитая выставка портретов («Историко-художественная выставка русских портретов» в Таврическом дворце. — Артгид), и в честь нее он выступает в Москве, в гостинице «Метрополь» с речью. Он говорит, что на выставке мы видим прошлое России, а он поднимает свой бокал за воскресение России. Грандиозные слова на самом переломе — как раз тогда, когда начинается изобум и когда видно, что старое действительно уходит и есть какая-то новая Россия.
Глеб Ершов: За десять лет — с 1905 по 1915 год — Новая Россия была изобретена.
Джон Боулт: Но Николетта права, конечно: «русские авангарды» — гораздо более подходящий термин, чем «русский авангард». Причем он впервые встречается, кажется, в 1910 году у Бенуа, и им редко пользуются даже в 20-х.
Николетта Мислер: Все-таки начали применять этот термин во время Первой мировой войны в Италии — то есть футуристы, которые даже хвалили войну.
Глеб Ершов: Сейчас есть тенденция к пересмотру термина: среди представителей «русского авангарда» было много людей с периферии тогдашней Российской империи. Получается, сегодня это понятие слишком колониальное, неудобное. Что вы думаете на этот счет?
Джон Боулт: Это деликатный момент. Мой ответ всегда такой: все-таки большинство авангардистов учились, выставлялись или в Москве, или в Петербурге, то есть как художники состоялись благодаря двум столицам. Так что есть смысл говорить о «русском авангарде».
Николетта Мислер: Это немножко как в Италии. Некоторые говорят, например, о неаполитанском или о миланском футуризме, но в конце концов оказывается, что общего больше, чем различий.

Дмитрий Козлов: А если хронологически попробовать дефрагментировать авангард: дореволюционный или совсем ранний, примыкающий к Серебряному веку, поставангард, авангард 30-х? Это удобно?
Николетта Мислер: Вообще, сегодня, когда молодежи в университете говоришь «авангард», они не всегда отличают старый авангард от нового. Например, советский суровый стиль для молодого поколения теперь тоже aвангард. О 1930-х годах пишут как о части авангарда, будто это все было также радикально и экспериментально. Хотя на самом деле не было.
Джон Боулт: Можно смотреть назад. Такие идеи, как, скажем, абстракция, можно найти даже у Левитана, Куинджи, у Александра Иванова — была такая тональность, но в конце XIX века это не называлось «абстрактное искусство». Это если мы возвращаемся к философским элементам.
Николетта Мислер: В конце концов, когда мы говорим «авангард» — это очень условно.
Джон Боулт: И передвижники были авангардом своего времени.
Глеб Ершов: Камилла Грей начинает свою книгу с артели «Товарищества передвижников».
Джон Боулт: Логично, мне кажется. Но это вечный разговор.
Глеб Ершов: Евгений Федорович Ковтун когда-то вывел красивую идиому: «Авангард, остановленный на бегу». Как вы думаете, что бы было, если бы во времена Сталина, Великого перелома рубежа 20–30-х годов авангард, так сказать, не убрали бы с художественной сцены? Вы можете помыслить дальнейшее развитие русского авангарда? Или это был такой, пусть драматический, но тем не менее естественный финал?
Николетта Мислер: Я думаю, это был естественный финал, потому что даже в Европе тогда наблюдалась какая-то усталость от абстракции. Все искусство, которое мы видим во время или после Второй мировой войны, в 1940-е или 1950-е — все абстрактные или вообще самые «прогрессивные» произведения стали скучноватыми. Все они переписывали то, что уже было сделано раньше. Были какие-то искания, некоторые интересные, но очень имитированные. Французское течение «информель». Новый импульс появился уже в 60-х годах.
Джон Боулт: Да, и если посмотреть на тех авангардистов, которые эмигрировали — скажем, Кандинский, Шагал, Мансуров, — что они делали на Западе? Более-менее повторяли то, что уже было известно. Возможно, соцреализм стал ответом на эту усталость. Это приходит на ум, когда смотришь, например, Дейнеку или Вялова.
Николетта Мислер: То же было и в Европе: в Италии — Новеченто, во Франции Пикассо возвращался к пластике. Никто же не заставлял его взяться за эти монументальные классические фигуры.
Глеб Ершов: Для любой революции естественно, когда сначала совершается рывок вперед, а за ним следует откат назад. Потеряв эту энергию, дух изобретательства, авангард 20–30-х тем не менее преуспел в дизайне и разного рода оформительском искусстве. Есть даже мнение, что дизайн — смерть авангарда. Хотя это тоже важное направление, но все-таки нечто иное, чем то, чего когда-то хотели художники, которые открывали новые формы. Можно это так мыслить?
Джон Боулт: Этот поворот к дизайну в начале 20-х годов в России является частью интернационального поворота. Мы видим, что в то же самое время к дизайну идут художники и во Франции, в Америке.
Николетта Мислер: То же самое с кубизмом и футуризмом — все происходило более-менее одновременно.
Глеб Ершов: Во втором томе двухтомника «Бегство форм: русское искусство начала ХХ века» у вас есть замечательная статья про Татлина. В глазах Георга Гросса он выглядит «скоморохом» и «отнюдь не был похож на ультрасовременного конструктивиста», каким его принято считать. Так что это за фигура — Татлин, как вы думаете?
Джон Боулт: Мне кажется, ретроспективно мы сильно преувеличиваем интеллигентность наших героев: думаем, это какие-то серьезные начитанные люди, что Малевич читал Шопенгауэра, а Татлин — Ницше. Мы глубоко их уважаем, но это обычные люди: выпивать любили, шутили. Все было гораздо веселее и комичнее, чем сейчас принято считать.
Николетта Мислер: Они были очень молодые: в Витебске (в созданном Малевичем объединении УНОВИС. — Артгид) мы видим мальчишек 17 лет.

Глеб Ершов: А когда вы приехали в 80-м году в Париж, вам удалось застать кого-то, кто еще мог свидетельствовать о той эпохе?
Джон Боулт: Я часто бывал у второй жены Ларионова — Александры Клавдиевны Томилиной, два-три раза у Мансурова в Ницце. У Томилиной было очень интересно, потому что она хранила все наследство Ларионова и Гончаровой — колоссальная коллекция. Часть потом перешла в Третьяковку, часть в Помпиду, но в 70-е все еще было у нее: картины, рисунки, библиотека Ларионова. И она очень пропагандировала своего Мишу, очень его любила, а Гончарову ненавидела.
Из Серебряного века еще был жив Дмитрий Бушен — один из дизайнеров русских балетов Дягилева, Сергей Эрнст — критик, писавший о Сомове и Серове в 1920-е годы. Из гигантов никого уже не было. До этого, еще в 1970-е, встречался с Анненковым — очень серьезный человек. Я хотел побольше узнать о «Союзе молодежи», который он тогда только смутно помнил, так что это было разочарование.
Мы встречались и с первыми дилерами — например, Леонардом Хаттоном (галерист, в 1957 году основал в Нью-Йорке Leonard Hutton Gallery, где вместе с женой Ингрид выставлял и продавал произведения немецкого экспрессионизма и русского авангарда. — Артгид). Появлялись первые частные галереи, которые продвигали русский авангард.
Глеб Ершов: А в каких западных галереях, музеях, коллекциях, помимо Костаки, хорошо собран русский авангард?
Джон Боулт: В Музее Тиссен-Борнемисы в Мадриде, Музее Людвига в Кельне, кое-что есть в Тейт Модерн в Лондоне, в МoМА в Нью-Йорке.
Николетта Мислер: По несколько вещей в каждом.
Джон Боулт: Довольно много в частных руках: например, у Георгия Костаки, у Тиссена, у Нины и Никиты Лобановых-Ростовских, у Гмуржинской в Кельне (сейчас у нее тоже галерея в Нью-Йорке). Много было у Эрика Эсторика — большого энтузиаста итальянского футуризма и русского авангарда. В Милане в 1960-е работы Гончаровой были у галериста Карло Беллоли. Это, можно сказать, первые миссионеры русского авангарда — частные лица, теперь полузабытые.
Николетта Мислер: И в основном они не знали русского языка.
Джон Боулт: Антонина Гмуржинска знала, конечно, но в основном нет. Просто энтузиазм! Их надо как-то воскресить, надо вспоминать. Первые их выставки были очень важные, есть каталоги (66-го, 67-го, 68-го, потом 70-х) и рецензии. Потом прошли первые аукционы, именно благодаря им во многом установились цены на русский авангард. Все это, по-моему, очень ему помогало, особенно когда здесь он был полузапрещен.
Глеб Ершов: А вы можете сейчас вспомнить какие-то из этих выставок?
Джон Боулт: Например, у Эсторика, кажется, в 1969 году, в Лондоне была выставка «Русский авангард»: там были Клюн, Лисицкий, Малевич, Попова. В 1971 году у Леонарда Хаттона прошла выставка «Русский авангард. 1908–1922». Гмуржинска — сначала сама Антонина, потом ее дочь — делали прекрасные выставки с серьезными каталогами.

Глеб Ершов: Приходилось ли вам сталкиваться с фальшаками?
Николетта Мислер: Ой, это скользкий путь. Такие истории часто повторяются, к нам иногда обращаются за консультацией. Я всегда говорю, что тут виновата сама Россия: если ты прячешь происхождение, потому что это выглядит «буржуазно» или «формально», появляются фальшаки. Можно сравнить ту или другую картину с музейными вещами, если есть правильный провенанс. А если нет?
Джон Боулт: Другой момент — это человеческая память. Мы уже не первой свежести люди, но помним: у Сарабьянова была целая коллекция Поповой и Веснина, их картины висели на стенах. Когда сравниваешь это с фальшивыми вещами Поповой, память играет очень большую роль.
Во время Советского Союза все было как-то темно и спрятано, и потому изобрести эти мистические провенансы легко. Однажды, лет тридцать назад, один музей в Лос-Анджелесе связался с нами по поводу коллекции русского авангарда, которую владелец хотел подарить музею. Мы смотрим на вещи, а это все фальшаки.
Глеб Ершов: А ловко написано?
Джон Боулт: Да, вполне профессионально. Но провенанс интересный: та коллекция будто бы принадлежала американскому полицейскому, который когда-то был в России, как-то помог КГБ и получил такой подарок за службу.
Николетта Мислер: Эта коллекция позже появилась в другом месте, только уже с другой историей, про дядю: то ли он был в амстердамском посольстве, то ли нашел в подвале у бабушки. Стоило записывать, все забывается.
Глеб Ершов: А в вашей коллекции что-нибудь есть?
Джон Боулт: У нас нет коллекции: две-три вещи и все. Есть кое-что из книг русских футуристов: у Николетты «Игра в аду» Крученых и Хлебникова, а у меня Яков Чернихов, все его книги. У нас очень большие библиотеки, но в основном чтобы читать, изучать.
Глеб Ершов: Вы преподаете в Италии и в Америке. Насколько сейчас востребован русский авангард среди молодых людей? Как вы думаете, им интересуются меньше или больше?
Николетта Мислер: Интересуются. И наконец-то, как и современное искусство, этот предмет можно преподавать. Я преподавала на славистике, а слависты в основном, к сожалению, все-таки не специалисты по русскому искусству, для них это часто что-то второстепенное. Сейчас в Венеции моя коллега преподает русское искусство уже на кафедре искусствоведения.
Джон Боулт: Да, первые ученые, занимавшиеся русским авангардом у нас, были славистами, которые знали язык, культуру и уже после заинтересовались изобразительным искусством. Именно искусствоведов не было, потому что язык все-таки играет большую роль: без него ты не можешь читать трактаты Малевича и прочих.
Я ушел с кафедры пять лет назад и меня заменили литературоведом, так что у нас в Университете Южной Калифорнии русское искусство больше не преподается. И, насколько мне известно, сегодня в Америке нет ни одной кафедры, все перешли на литературоведение. Хотя Олег Минин читает курс по русскому авангарду в Бард-колледже, но это среди других тем и предметов. Можно сказать, что лучшими годами были 80–90-е, а сейчас мода прошла. Появились другие конкуренты: китайское искусство, арабское, африканское.

Дмитрий Козлов: Однако книги по истории русского авангарда в США выходят регулярно.
Джон Боулт: Это сейчас очень легко. Когда мы изучали авангард в 70-е годы, не было информации, не было интернета или даже ксерокса, компьютеров. Мы сидели в архивах или в Ленинке и копировали от руки. Я до сих пор возвращаюсь к этим записям и до сих пор все это помню. А сегодня интернет предлагает все и сразу, не надо ничего делать: берешь абзац Малевича, абзац Татлина — и готова книга.
Глеб Ершов: В статье «Художественный авангард на военном фронте» в первом томе сборника «Бегство форм» вы описываете, как в 1914 году Россия оказалась изолирована на очень долгое время: войной, потом революцией и Гражданской войной. Только с начала 20-х годов, с признанием уже Советской России, границы стали более проницаемы. И в этот период, 1914–1918 годы, были созданы все самые главные направления, системы в искусстве. Получается, что русское искусство оказалось в изоляции и благодаря этому произвело свои самые главные достижения. Или нет?
Николетта Мислер: На самом деле мы заметили, что в 1914–1915 годах, хотя было смутное время, люди очень много ездили. В связи с войной они все возвращались в Россию, но до этого бродили по Европе, несмотря на трудности.
Джон Боулт: Это, конечно, интересное явление, но я не знаю, как его объяснить. Вы правы, кульминационный пункт там — это, скажем, 1915–1916 годы.
Глеб Ершов: Вы оказались в Москве в 60–70-е годы, в расцвет неофициальной культуры. Удалось ли вам познакомиться с кем-то из художников-современников?
Николетта Мислер: Тогда была мода ходить по мастерским так называемых диссидентов, но я занималась Филоновым и меня это не особенно интересовало. Я немного ходила в 1975–1976 году из любопытства, потому что хотела сравнить с тем, что происходило в Италии. Была у Ивана Чуйкова, у Франциско Инфанте. Но в основном мне все это казалось очень passé, старомодным. Были какие-то перформансы, на одном из них меня спросили: «Как бы ты назвала то, что мы делаем?» То есть, понимаете, они сами еще не определились. И тогда все были очень изолированы, мало друг друга знали.
Джон Боулт: Это будет звучать странно, но, будучи здесь студентом в 60-е годы, в начале брежневской эры, я был очень большим поклонником Советского Союза. Не коммунистом, но очень все это любил, и мне как-то не хотелось ходить по диссидентам, я даже нарочно к ним не ходил. А о том, что видел, тоже думал: это уже есть на Западе, зачем повторять? Другое дело — Франциско Инфанте, мы стали большими друзьями.
Глеб Ершов: Когда вы познакомились с Инфанте, у вас возникла идея, что его творчество все-таки наследует 20-м годам?
Джон Боулт: Да, конечно. Малевичу, например.
Николетта Мислер: Но он абсолютно самостоятельный, очень независимый человек. Его вещи ценны сами по себе. Он не занимается каким-то направлением, чтобы оправдываться, а идет по своему пути.
Глеб Ершов: Исследования авангарда часто сравнивают с географической картой, и, казалось бы, вся карта уже нарисована. Как вам представляется, есть ли еще что-то не открытое, какие-то белые пятна?
Джон Боулт: Думаю, да — это международный контекст. Мы тоже жертвы подхода, который изолирует русский авангард: вот Россия, она странная, особая. Но многие наши герои все-таки прекрасно знали французский кубизм, итальянский футуризм. Так что хорошо было бы сделать огромную панорамную выставку, где будет русский авангард, французский авангард, итальянский авангард, английский вортицизм. Идея утопическая, конечно!
Глеб Ершов: Прекрасная идея. Мне кажется, это очень важно сделать.
Джон Боулт: Особенно сейчас, потому что Россия опять замыкается внутри себя и надо как-то расширить горизонты.
Примечания
- ^ Pronina I. О свойствах символистской памяти: Павел Филонов в Лионе // Modernités russes. 2010. 11. P. 267–289. URL: https://www.persee.fr/doc/modru_0292-0328_2010_num_11_1_932.
- ^ Николетта Мисслер является автором книги «Вначале было тело. Ритмопластические эксперименты начала ХХ века», где исследуется в том числе деятельность хореологической лаборатории «Искусство движения» Государственной академии художественных наук.