Как я разбил очки Осмоловскому, или Альтернативная экономика
Общество Радек (Максим Каракулов, Александр Корнеев, Петр Быстров, Павел Митенко, Андрей Сергиев, Валерий Чтак, Давид Тер-Оганьян, Алексей Булдаков) — союз художников, активистов и акционистов конца 1990-х — начала 2000-х годов — сложилось и действовало в эпоху, когда искусство существовало в контексте непосредственных человеческих связей, а институциональный вакуум провоцировал художников к тому, чтобы выступать по отношению друг к другу критиками и кураторами. «Радек» давно принадлежит истории, половина его бывших участников продолжают персональные карьеры (хотя кто-то ушел из искусства). Художник Петр Быстров работает над книгой, включающей в себя как теоретический анализ художественных проблем того времени, так и мемуары, посвященные основным фигурам арт-сцены рубежа 1990–2000-х. «Артгид» начинает публикацию избранных фрагментов из этих увлекательных мемуаров.
 Общество Радек. Do you accord. 2002. Вид инсталляции на выставке Davaj! Russian Art Now. Postfuhramt, Берлин. Courtesy Петр Быстров
Общество Радек. Do you accord. 2002. Вид инсталляции на выставке Davaj! Russian Art Now. Postfuhramt, Берлин. Courtesy Петр Быстров
С Анатолием Осмоловским мы познакомились в 1996 году, то есть 25 лет тому назад. Мне было 15, ему — 27.
Это был не сегодняшний двадцатисемилетний (художник или вообще человек). Сегодняшний двадцатисемилетний — это обычно худощавый юноша в коротких носках и больших наушниках, ученик какой-нибудь Школы Родченко или же молодой фотограф ноунейм. Осмоловский в свои тогдашние 27 был не то чтобы мэтр, но плотный немолодой дядька в огромной старой куртке, очень серьезный, знающий.
Нас познакомил, вероятно, Авдей Тер-Оганьян.
Уже в 1997 году мы много общались, причем не только на открытиях выставок, но и на заседаниях парт-ячеек, интеллектуальных квартирниках (с 1998 года — на так называемом «семинаре в Перово» у Макса Каракулова), демонстрациях и прочая, и прочая. И если Авдей, представитель другого поколения (на восемь лет старше Анатолия!), являл собой образ чистого художника-авангардиста, то есть служителя муз, то Осмоловский был «политиком», да к тому же еще и «интеллектуалом».
Итак, середина 90-х.
Начало конца 90-х.
Ну, гопота. Какие-то солдаты. Жизнь впроголодь (а где взять деньги, чтобы не впроголодь?). То есть, конечно, параллельно где-то существовал «Птюч» (один из популярных в середине 1990-х московских клубов. — Артгид) и рейв-культура, дорогая наркота, геи и танцульки, но все это точно проходило мимо нас.
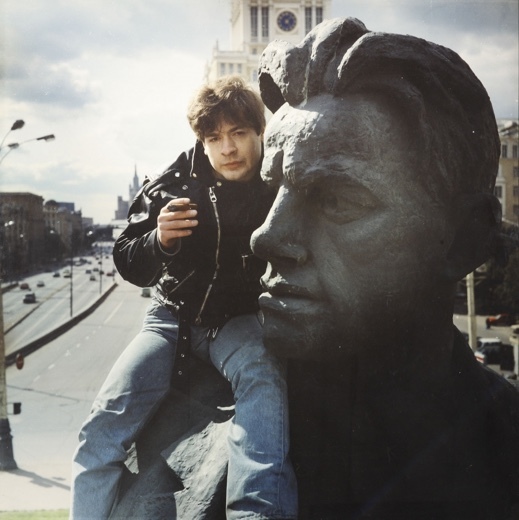
И вот осенью 1998 года, после того как грянул дефолт и жить стало не то чтобы страшновато, но как-то по-новому, на очередном семинаре в Перово Осмоловский решил посвятить свой спич деньгам — проанализировать феномен денег и выстроенную с их помощью систему отношений.
Начал он, как сейчас помню, с сообщения, что «многие его знакомые» (ну или «знакомые знакомых») в связи с дефолтом покончили с собой. Ибо не смогли (бы) жить дальше — столь существенна была для них роль денег, внезапно обесценившихся, исчезнувших. Затем Осмоловский довольно резко перешел к утверждению, что деньги, в общем-то, и вовсе не нужны.
Не скажу, что присутствовавшие запротестовали или особенно удивились, но стали слушать внимательнее. Осмоловский меж тем расходился: он заявил, что капитализм, навязывая ложные ценности (более-менее понятно), доводит людей до отчаяния, лишает отношения искренности, делает человека придатком (тоже все, в общем-то, понятно). И тут последовало заявление, что можно прожить вообще без денег. После этого в комнате начался не то чтобы гул (акустика не позволяла), но точно некоторое брожение умов.
«А как же тогда жить?» — прозвучал логичный вопрос.
И Осмоловский навскидку и, помнится, залихватски начал перечислять альтернативные модели вселенной. Например, упомянул сети или среду. То есть если ты находишься в среде — вместе с друзьями и единомышленниками, — то с голоду уж точно не умрешь. Потом он рассказал про известность и про то, что существуют различные формы капитала, например интеллектуальный капитал. Потом он упомянул причастность к той или иной форме жизни — например, к секте, руководящей умами в столь значительной степени, что человек попросту забывает о потребностях тела, ну и так далее. В качестве примера личности, мало имеющей общего с деньгами, он привел… себя.
В комнате воцарилось молчание. Трудноперевариваемый «урок» было больно глотать. Видя это замешательство и желая несколько смягчить произведенный своим выступлением эффект, Осмоловский указал собравшимся на то, что сегодня мы представляем собой некий вид альтернативной интеллектуальной элиты.
После этого он уехал.

Прошли годы. Как-то я зашел на вечеринку на чердаке в институте Бакштейна (Институт проблем современного искусства, одним из основателей которого был Иосиф Бакштейн, долгие годы располагался в мастерской Ильи Кабакова на чердаке доходного дома страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре в Москве. — Артгид). Было много молодежи, все танцевали, шла веселая пьянка. Присутствовал молодой Коля Палажченко. И Осмоловский неожиданно предложил мне станцевать вместе с ним. Я, однако, не решался.
Тогда он пустился в пляс, чтобы показать мне, что ничего страшного не случится, если мы немного потанцуем. Но я не умел танцевать и отшучивался. Осмоловский настаивал: «Дава-а-ай!!!»
Я согласился. И вот тут, чтобы объяснить мне самую суть танца как вида телесного поведения, Осмоловский сказал: «Это нужно делать Р А З В Я З Н О». Под развязностью он подразумевал, как я понял, безбашенность, дерзость и некоторое нахальство, которые помогли бы уйти от застенчивости в танце. Сам он действительно танцевал развязно: пригнулся, надул губы и как-то покручивался. Тогда и я стал танцевать развязно, как велел Осмоловский: помнится, начал вертеть руками… быстрее, быстрее… и случайно смахнул с Осмоловского очки. Вдребезги.
Танец прекратился.
Настроение как-то упало, поскольку я был расстроен случившимся. Кроме того, я понял, что за очки мне придется платить.
А Осмоловский как-то говорил, что у него в гардеробе, да и вообще в хозяйстве одна дорогая вещь — очки.
Сколько же?
И Осмоловский назвал сумму, которую сейчас не помню, но от которой (вот это помню хорошо) я погрустнел.

На следующий день я пошел в сберкассу, где у меня накапливались поступления «за потерю кормильца»: я получал какие-то выплаты за своего рано умершего отца.
Деньгами этими я не пользовался совсем — отчасти потому, что у меня было крайне мало потребностей, отчасти потому, что так научил Осмоловский.
С Осмоловским мы договорились, что я плачу половину. Сколько?
В тот день я снял со сберкнижки половину (!) всех многомесячных накоплений, дабы оплатить половину стоимости разбитых очков.
Не то чтобы я был расстроен.
Удивлен?
Нет…
Ведь дело было не в деньгах.
Просто я разбил очки Осмоловскому.




