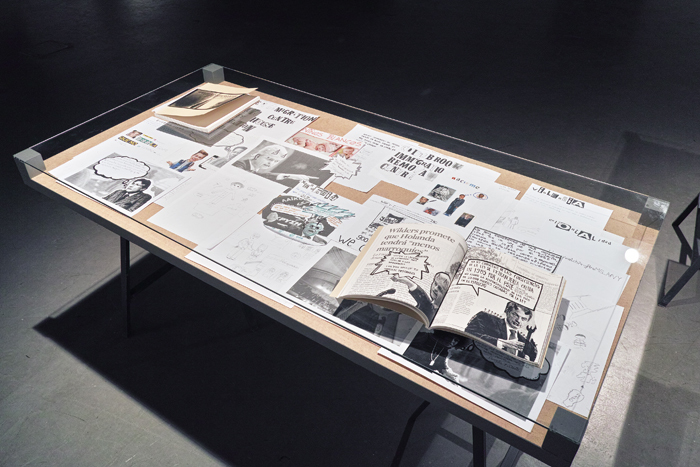Круглый стол: V Московская международная биеннале молодого искусства
В столице открылась V Московская международная биеннале молодого искусства. Шеф-редактор «Артгида» Мария Кравцова собрала за круглым столом художника и куратора выставки «Свежая кровь» Антонину Баевер, основателя «Художественного журнала» и куратора Виктора Мизиано, арт-критика Валентина Дьяконова, историка искусства Бориса Клюшникова и куратора Ивана Исаева, чтобы обсудить с ними институциональную подвижность биеннале, травму «большим проектом», идеологему молодости и эйджизм, радикальное одиночество и многое другое. «Артгид» благодарит Московский музей современного искусства и лично Алексея Новоселова за помощь в организации круглого стола.
 Виктор |  Борис |  Иван |
 Антонина |  Валентин Дьяконовкуратор отдела «Исследования» Музея современного искусства «Гараж» |  Мария Кравцоваглавный редактор «Артгида» |
Мария Кравцова: До 2008 года то, что сейчас называется Московской международной биеннале молодого искусства, проводилось в формате ежегодного летнего фестиваля под названием «Стой! Кто идет?». Со временем фестиваль то ли мутировал, то ли эволюционировал в биеннале, потом внутри структуры самой биеннале начался бесконечный процесс трансформации. Если прошлая, IV биеннале, на мой взгляд, была абсолютно патерналистской — был приглашен известный британский куратор, 65-летний Дэвид Эллиот, на этот раз условия игры сильно изменились. Было решено, что молодежность V биеннале будет обеспечиваться не только тем, что в форуме примут участие художники до 35 лет, но и тем, что делать ее будут такие же молодые кураторы и комиссар (в прошлых редакциях форума комиссар был незаметной фигурой). Как вы относитесь к этой институциональной подвижности биеннале?

Виктор Мизиано: В поиске себя и в постоянном переформатировании, с моей точки зрения, нет ничего уязвимого. Коллизии моей биографии позволили мне иметь отношение к созданию разного рода больших проектов, в том числе связанных с молодым искусством. К примеру, «Манифеста», которая родилась в середине 1990-х как молодежный проект, была и остается программно нестабильной. Когда-то ее начинали молодые кураторы, а предпоследняя «Манифеста» была сделана 70-летним Каспером Кёнигом и прошла, как известно, в Эрмитаже, самом большом и академическом музее мира. Но есть один существенный момент. «Манифеста» — проект рефлексивный и ее переформатирование каждый раз носит не только тактический, но и концептуальный характер. А корректировки формата молодежной биеннале похожи на шараханье от одной структурной и институциональной неудачи к другой. На протяжении всех этих лет я каждый раз задавал себе один и тот же вопрос — в какой мере оправдано само это словосочетание «молодежная биеннале»? Биеннале родилась как фестиваль молодых художников с чудесным названием «Стой! Кто идет?», в котором была какая-то безбашенность, молодежный расслабленный дух, масса символических коннотаций, которые казались мне более чем адекватными происходящему. Сама идея расслабленного молодежного ежегодного фестиваля в летней Москве, во время «мертвого сезона», мне тоже импонировала. Биеннальский, то есть двухгодичный цикл, который обычно оправдывается масштабностью проекта и сложностью его подготовки, находится в контрапункте с самой идеей молодежного искусства как чего-то более подвижного и импульсивного. Высказывания молодых кураторов могут быть очень яркими, свежими, интересными и уместными, но, мне кажется, они оптимальны в среднем и небольшом формате. То есть не имеющие достаточного профессионального опыта кураторы в принципе не могут быть адекватными задачам создания большого проекта и готовыми к выходу в большой формат. Поэтому в случае молодежного проекта отказ от идеи фестиваля в пользу более статусного формата биеннале мне, признаться, всегда казался малооправданным. Более того, сомнительна эта идея и чисто идеологически: ведь она возвращает нас к авангардно-модернистской парадигме, с ее ставкой на то, что «поколение убивает поколение», и на то, что все самое новое и радикальное мы получаем с молодыми. Конечно, культура и сознание, вопреки нашему выходу в постмодерность и метамодерность, продолжают ориентироваться на эти идеи, но все-таки уже не с той категоричностью и однозначностью, как это было в эпоху высокого модернизма, когда, кстати, существовала биеннале молодых художников в Париже. То была биеннале, созданная в эпоху 1960-х, когда на сцену вышло поколение бебибумеров и все дышало обновлением, но закончила она свое существование — и это крайне симптоматично! — в 1974 году, с открытием Центра Помпиду. Завершая свою реплику, скажу, что если кто-то и ждет, что поколение молодых принесет обновление, то, боюсь, не дождется. Я лично вижу, что обновление в данный момент приходит благодаря усилиям художников разных поколений, а те, кто пытается инсценировать новый приход «молодых волков», — это, в сущности, пара десятков говнюков, пытающихся использовать идеологему молодости в своих карьерных интересах…

М.К.: Тем более что сейчас эта идеологема сильно фетишизируется.
В.М.: Да, фетишизируется, и за этой фетишизацией стоят, конечно же, интересы рынка, которые, как и другие, чисто властные интересы, эту идею, как кажется, дискредитируют. Склонен считать, что современная ткань художественной жизни сплетена несравненно более сложным способом. Здесь, разумеется, играет свою роль импульс молодого сознания и свежего восприятия, но это только небольшая часть прихотливой системы связей и отношений, играющих сегодня не меньшую, если не бóльшую роль. Так что фетишизация и абсолютизация, а также политическая и стратегическая ставка на идею молодежной биеннале мне кажутся не вполне оправданными. Контекстуально оправданы они были, как мы и говорили, в 1960-е и отчасти в начале 1990-х, когда сам факт радикального обновления политической карты Европы невольно подводил к мысли об особой роли новых поколений, которым суждено будет жить в новой объединенной Европе. Подобная политическая риторика оправдывала тогда «Манифесту». Однако закономерно и то, что, начиная с ее третьего выпуска, она стала уходить от этой идеи, понимая, что все менее уместна в изменившемся контексте и ограничивает творческие возможности проекта. Но при всем моем скепсисе по поводу возможностей биеннале молодого искусства я все же могу сказать, что последняя версия московской биеннале, по крайней мере с точки зрения ее структуры, мне кажется более адекватной задачам, провозглашенным этой инициативой. Наконец-то были приглашены молодые кураторы, а не ветеран Дэвид Эллиот, для которого эта биеннале была явно поводом отдохнуть от трудов тяжких…
М.К.: Вообще странно, что к этой простой и логичной идее, что молодым художникам более адекватны молодые кураторы, шли пять лет. Но есть и еще один аспект. Организатор биеннале молодого искусства — Государственный центр современного искусства, очевидно, выделял это событие среди других своих проектов. Так, мало кто заметил, но 3-я Индустриальная биеннале в Екатеринбурге состоялась не через два, а через три года после 2-й. Она пала жертвой молодежной биеннале, потому что все ресурсы были оттянуты проектом Эллиота. С одной стороны, эта история выглядит комичной, с другой — драматичной, потому что в этой коллизии я вижу травму поиска пресловутого «большого проекта для России».
В.М.: Если говорить о травме большим проектом, уши которого и в самом деле торчат из молодежной биеннале, то эта травма, похоже, затронула многих, слишком многих. Это не только травма двух борющихся между собой биеннальских проектов — Московской биеннале современного искусства и Московской биеннале молодого искусства, но и травма всего московского институционального контекста. Нет ничего более унылого и провинциального, чем так называемая параллельная программа. Ты приезжаешь в Берлин и видишь, что ни одна локальная институция не чешется, чтобы создать что-то к тому историческому моменту, когда в этом городе проходит Берлинская биеннале. То же самое происходит в Венеции и Сан-Паулу. У всех стационарных институций свой ритм, своя повестка и своя программа, которая иногда совпадает с каким-нибудь большим периодическим проектом, но чаще — нет. А желание московских институций жить в темпоральности большого события, собственно, и является признаком институциональной незрелости. Но у меня есть еще две ремарки. Мне кажется, что на этот раз некий формат события — три выставки, которые делают три молодых куратора, — сложился, и я впервые без недоумения смотрю на то, что происходит. Единственное, что я до сих пор не могу понять, почему организаторы биеннале настаивают на том, что художники-участники биеннале должны привлекаться на основании заявок. Мне кажется, это — нарушение самой творческой природы работы куратора и его права на самостоятельный выбор.
М.К.: Все кураторы биеннале прекрасно обходили это обстоятельство. На выставке Саммана представлено много художников, с которыми он до этого неоднократно работал. Кто мешает куратору попросить любимого автора заполнить заявку? Никто.
В.М.: Да, но зачем заставлять профессионалов обходить непрофессиональные условия?! Ну, согласитесь, сложно представить Андрея Тарковского, который снимает «Андрея Рублева» или «Солярис» с актерами, выбранными на основании заявок. Это абсолютная нелепость, нонсенс, нарушение базовой природы кураторской работы.

Иван Исаев: Основная позиция отсутствия недоумения относилась у вас к самому принципу назначения так называемого молодого куратора. Но, если обращаться к конкретному случаю, с моей точки зрения, сам проект тоже сделан явно халтурно. Это касается и выбора художников, и однобокой тематики многих работ, и их качества. Видно, что куратор работал, скажем так, спустя рукава. Молодая халтура, по-вашему, лучше, чем халтура старых кураторов, и недоумения не вызывает?
В.М.: Мы сейчас не обсуждали качество выставки. Во-первых, их три, а ты явно говоришь об основном проекте. Но все три выставки очень разные, и сама диалектика трех версий тоже не лишена своего потенциального смысла и интереса. Основной проект имеет достаточно сильные стороны, правда, в меньшей степени кураторские и в большей — дизайнерские и драматургические. Это именно удачный с точки зрения драматургии проект. Он точно отвечает на запрос заказчика, который хотел получить нечто молодежное и имеющее некий общественный резонанс. И вот перед нами версия клубного, веселого, карнавального, технологического, смартфонного молодежного духа. Довольно банально, тривиально и поÏшло, но видно, что человек честно отработал топик и выполнил задачу, которую перед ним ставили. Хотя, может быть, такой задачи не было, а это он ее так понял…
И.И.: Топик можно отработать с разной степенью глубины, а здесь все было сделано предельно поверхностно.
В.М.: Плохая выставка, я же не спорю.
Борис Клюшников: Здесь было сказано, что деление на поколения не имеет сегодня такого веса в мире искусства, как раньше. Но это утверждение верно лишь с точки зрения европейской ситуации. На самом деле в России, как мне кажется, с учетом событий, произошедших, например, в эпоху перестройки, произошел серьезный поколенческий сдвиг. Мы уже говорили о поколении бебибумеров 1960-х и его влиянии на контекст. У нас в конце 1980-х — начале 1990-х случился некий демографический провал, в результате которого сегодня наметился определенный поколенческий разрыв, в том числе разрыв с предыдущей традицией искусства. И этот разрыв тройной. Существовали художники советские, постсоветские, существовала проблематика 1990-х годов, отчасти посвященная поиску идентичности, в том числе идентичности национальной, поиску языка или даже отказа от языка. Потом были 2000-е, с их оформившейся идеологией. Поэтому если мы обратимся к локальной ситуации, то увидим, что у нас разделение на поколения до сих пор имеет смысл. И поэтому обращение к самому формату биеннале можно объяснить исходя из тех событий в социальной жизни, которые происходили. Другое дело, что сам термин «молодежная» не совсем удачен и, естественно, довольно спекулятивен. Но тот факт, что мы отмечаем художников, которые были рождены в конце 1980-х — начале 1990-х…
М.К.: В биеннале могут участвовать художники до 35 лет, а это люди, родившиеся в начале 1980-х, последнее и очень советское поколение…
Б.К.: Но насколько я знаю, художников, которые вплотную бы приближались к этому возрастному рубежу, на биеннале не так много.
И.И.: Зато много зарубежных художников, которые не имели советской травмы.
В.М.: Просто у них другие травмы, у каждого свои. Мой тезис — возлюби свои травмы, как самого себя.

Б.К.: В любом случае был выбран формат биеннале, и в этом я вижу стремление осмыслить, что произошло в российской ситуации после 1989 года. И с этим можно по-разному работать.
Антонина Баевер: Прости, но никто из участников не говорит о России в этих проектах и никто не говорит о молодости.
В.М.: России нет. Почти все, что мы видим, имеет отношение к искусству пост-интернета, о котором так много говорят в последнее время, а оно предполагает, что локаций больше не существует.
А.Б.: Да, но мы находимся в уникальной ситуации, когда Россия опять впереди планеты всей, мы единственные имеем эту эйджистскую биеннале и не говорим при этом о локации. Если бы эта биеннале перемещалась как «Манифеста» — сегодня ее сделали в одном городе, завтра в другом, — но это именно Московская биеннале молодого искусства, но при этом никто не говорит о локации и никто не говорит о возрасте.
И.И.: Мне кажется, если мы рассматриваем конкретный проект, в этом недоработка именно куратора. Предполагается, что проект, который проводится в определенном месте, должен соотноситься с местным контекстом через работы художников, через исследования, через непосредственное взаимодействие с локацией (в данном случае со зданием Трехгорной мануфактуры, ее революционной историей, ее окрестностями — их прошлым и настоящим, со всеми этими модными клубами и ресторанами). Но эта биеннале забила на все. Такое ощущение, что Самман взял работы из одного «белого куба» и просто перенес их в другой. Куратор не только сам не проводил исследование, но и не просил художников это сделать. И в этом я вижу абсолютную изолированность биеннале.
Б.К.: И это здорово! Я хотел бы защитить такой подход! Во-первых, когда мы говорим о травме, мы не должны забывать о том, что она не была локальной, а была глобальной. То, что случилось после 1989 года, касается всего мира, а не только России. И здесь нельзя четко определить соотношение локального и глобального. И вот мы говорим, что куратор не работал с местным контекстом и не создавал что-то контекстуализированное, а мне кажется, что сама ситуация сегодня уже не предполагает открытого взаимодействия между участниками, сегодня уже не нужен прямой контакт, когда ты приезжаешь на место и взаимодействуешь с людьми, которых ты там встретил.
И.И.: Это зависит от стратегии художника, а не от заданной позиции…
Б.К.: Это не прямой выход в раскрытые горизонты, работа с определенными сетями и так далее, а, наоборот, очень аутичная форма организации, когда каждый сидит в своей комнатке, думает. Но когда он наконец из этой комнатки с каким-то определенным произведением или проектом выходит, то получает возможность совпадать с другими. Речь уже не идет о попытке достучаться до Другого, вывести его в определенное поле взаимодействия, что до сих пор делают кураторы других биеннале, например, последней Московской. И мне кажется, именно в этом заключается принципиальная позиция Надима Саммана, он говорит о том, что каждый, как монада Лейбница, опосредованно связан с миром.

М.К.: То есть все художники биеннале — такие хикикомори (распространенный среди японских молодых людей образ жизни, характеризующийся крайней степенью социальной изоляции. — «Артгид»).
Б.К.: Да! И это очень важно!
А.Б.: Они сидят по домам и совпадают!
М.К.: Конечно, они же в одном и том же интернете.
Б.К.: Повторяю, это очень важно, тем более что сам феномен хикикомори начал развиваться именно после 1989 года. И уже давно он из локально японского стал более глобальным, и сегодня это некий иной способ существования. Предыдущие годы были оформлены фетишизацией сетей и подключенности. Ты должен быть все время онлайн, все время взаимодействовать. Но сегодня все больше исследователей задаются вопросом, как взаимодействовать без того, чтобы строить сеть, взаимодействовать, скорее, на позициях резонанса. Собственно, на биеннале очень чувствовалось, что куратор размышляет именно о том, как построить такую парадоксальную связь без связей. У аудитории практически не было возможности собраться в единый организм и начать взаимодействовать. Наоборот, куратор настраивал на очень личном взаимодействии с каждой работой. Я сейчас, конечно же, не рассуждаю с точки зрения того, хорошо это или плохо.
В.М.: Но ты сейчас говоришь, про основной проект. Почему-то для всех вас биеннале — это в первую очередь основной проект. Но там ведь было еще и два так называемых стратегических проекта. А они тоже заслуживают разговора!
Б.К.: Деление биеннале на основной и стратегические проекты вовсе не было нововведением этого года.
И.И.: Причем стратегические проекты проходили на тех же площадках, что и в прошлый раз, а их вторичность была заявлена в каталоге, где есть main project и strategic projects.
Б.К.: Но я хотел бы продолжить. Мне кажется, что проекту Саммана удалось указать границы интерактивности, радости взаимодействия друг с другом, с сообществом, то есть с тем, что в последние годы всех захлестнуло. В 1990-е все очень критиковали спектакль и пассивность. Зритель должен был выходить из пассивности в активность, его провоцировали стать участником сообщества, у него обязательно должна была быть позиция. Но в проекте «Глубоко внутри» очень хорошо показано, что многие художники относятся к этому как к насилию. То есть построенное на взаимодействии искусство 1990-х и 2000-х на самом деле было принуждением к этому взаимодействию и выходу в публичность. И оказалось, что многие современные художники на самом деле не хотят выходить в публичность, но при этом хотят делать искусство. И это действительно интересный поворот, о котором мы должны сегодня поговорить, и он этапно следует за бумом интерактивности, вовлечения и всего того, что привлекало внимание в предыдущие годы.

В.М.: Боря, все, что ты описываешь, было характерным для 1990-х, а не для 2000-х. Когда мы говорим об интерактивности и вовлеченности относительно ситуации 2000-х, то, скорее, имеем в виду политический активизм. А его уже нельзя связать с интерактивностью и сообществом, только с дискурсом солидарности и мобилизации. В нем не было принуждения к сети, а был выбор, причем выбор не сети, а другой, более жесткой формы социальной консолидации. Но я готов согласиться с тем, что ты говоришь о новейшем искусстве: желание выйти из сети есть — и мое как личное, как творческое желание. Недавно меня чуть не выгнали взашей с дискуссии в одной очень мастодонтной, правильной немецкой институции, где все говорили: «Сеть, сеть, сеть», — а я начал настаивать на праве и на необходимости пережить опыт радикального одиночества. И это показалось присутствующим…
Б.К.: …идеологически подозрительным…
В.М.: …и даже реакционным. Вот это долженствование к сетевой совместности, оно, действительно, в Европе, и особенно в Северной Европе — Европе с социал-демократической бюрократией — программно продавливается. Так что этот отказ от апологии сети я чувствую не только в себе, но и вижу у многих художников, так что ты абсолютно прав. Но мне трудно согласиться с твоим стремлением оправдать в российском контексте некий особый статус молодого сознания и молодого опыта. Круг молодых художников и активистов художественного мира остается очень узким. И оправдать этой горсткой людей большую институцию все равно невозможно. И я бы не сказал, что все, что ты говоришь о московском контексте, не применимо к контексту европейскому.
Б.К.: Я не говорю, что не применимо.
В.М.: Все поколения проходят через свою травму. Именно травма задает внутренний стержень поколения, именно травма, как уверяет психоанализ, задает реальность. И должен тебе сказать, что, по моим наблюдениям, серьезная проблема последнего российского поколения заключается как раз в иллюзии свободы от травмы. И это очень многое объясняет в его умственном складе и психологии.
Б.К.: Мне как раз не кажется, что мы свободны от травм. Я был маленьким в 1990-е годы, и травматичности, в том числе визуальной, мне хватило.
М.К.: Одна из самых популярных работ основного проекта — инсталляция Марины Рагозиной «Крик и тишина» — как раз рассказывает о невозможности выразить свою травму.
В.М.: Так приглашенные художницей персонажи этой работы потому и не смогли выразить травму, что склонны считать, будто ее нет. Ее смог выразить только профессиональный актер, который ее вообще сымитировал. Но я не говорю о том, что травмы нет, я говорю о том, что это первое из известных мне поколений, которое склонно не столько игнорировать травму, избегать ее, то есть «вытеснять», если воспользоваться уместным здесь термином из психоанализа, сколько строить свою поколенческую идеологию на идее свободы от травмы. Наверное, именно поэтому данное поколение отличают крайняя хрупкость, ломкость, неустойчивость…

Валентин Дьяконов: У меня маленькая ремарка по поводу осознанности травмы. Мне кажется, что во всех поколениях встречается если не игнорирование травмы, то ее неузнавание. А что касается молодежной биеннале, я хотел бы спросить у Тони, что она имела в виду своей выставкой, которая, как я понял, посвящена молодости как фетишу.
А.Б.: Мне глубоко претит подогревание культа молодости. Очевидно, что за этим всем стоит простой маркетинг, и, поняв это, следует задать себе вопрос, для кого это делается и кем. Это делается институциями, которые якобы поддерживают молодых художников, но при этом все больше и больше стремятся к регламентации и сужению рамок — из фестиваля все это превратилось в биеннале, появился комиссар и так далее, и тому подобное. Творческие импульсы идут не от молодых авторов, кураторов и художников, а с другой стороны. И именно об этом я хотела рассказать на своей выставке. Мне хотелось показать, чем сегодня в Москве и в России живут молодые люди. А людям, которые ходят на вечеринки и слушают музыку, хотелось рассказать о том, что на свете есть еще и искусство. Мне была важна ответная реакция, пусть это и звучит высокопарно и самонадеянно, и я знаю, что многие пришедшие на открытие все это прекрасно считали.
В.Д.: Выставки в рамках молодежной биеннале в целом имеют тенденцию выглядеть сборищем молодых старичков. И особенно это касается в этом году основного проекта. Эти художники — это очень правильные дети, нерды и отличники, они понимают все проблемы современного мира и готовы ответственно высказываться по их поводу. У тебя же художник был предъявлен как абсолютно безответственная фигура, которую вообще не интересует, что там с миром происходит. Это совершенно замкнутый на себе и на своем времяпрепровождении человек, и, в конце концов, трактовка молодости как веселого досуга — это в целом правильная трактовка.
М.К.: Что значит «правильная»? Она во многом каноническая, вообще-то.
А.Б.: В проекте был художник, который хоть и превысил возрастной барьер в 35 лет, но при этом дико молод. Я бы даже сказала, что он просто подросток. Вечно молодой Миша Максимов.
В.Д.: Он, конечно, «подросток», но в контексте твоего проекта ему было слегка неуютно.
И.И.: Твоя выставка в целом была о субкультуре, и построена она была вокруг личного круга, личной культуры и рейва.
А.Б.: Это важное замечание, но не все в моем проекте построено вокруг личного. Тот же Максимов в своей работе рассказывал об институциональных отношениях со звездой (художник Сергей Братков) и с директором музея (Ольга Свиблова). Гранильщиков тоже говорил о своих, далеких от меня вещах, которые я все же понимаю и воспринимаю. Так что это более разноплановый проект, не исчерпывающийся обращением к субкультуре, хотя, конечно, самым эмоциональным моментом выставки стали люди, которые танцевали под музыку. Мне вообще хотелось, чтобы эмоциональность стала одним из основных акцентов проекта.

Б.К.: Мне понравилось, что на этой выставке молодость трактовалась как атмосферное явление. Было много работ, построенных вокруг проблематики погружения. Например, климатическая и психоделическая работа «Накрывает».
А.Б.: Только моя мама сразу поняла, что это триколор.
В.Д.: Значит, твоя выставка не для молодежи.
А.Б.: Молодежь как раз тоже разобралась. А вот среди «взрослых» были и те, кто подумал, что это каким-то успехом накрывает.
М.К.: Мы уже говорили, что для многих биеннале — это основной проект, хотя структура события более сложная, в частности включает в себя еще и два стратегических проекта. Биеннале — это триумвират выставок, окруженных массой событий.
В.Д.: Главная проблема с триумвиратом заключается в том, что два стратегических проекта вместе и сами по себе настолько лучше, чем главная выставка «Глубоко внутри», что становится несколько грустно. Года два или три назад Надиму Самману забыли сообщить о том, что уже можно не делать проектов газетного типа, с подобранными по темнику работами, в которых отражалась бы вся актуальная повестка дня. Уже можно делать «Манифесту» Кристиана Янковского в Цюрихе, Берлинскую биеннале Артура Жмиевского и так далее.
В.М.: Я бы ссылался и на «Манифесту» Кёнига в Питере, которая была программно сформулирована как «“Манифеста” без манифеста». И за это его, бедного, «цепляли» со всех сторон: как это так — биеннале без темы?!
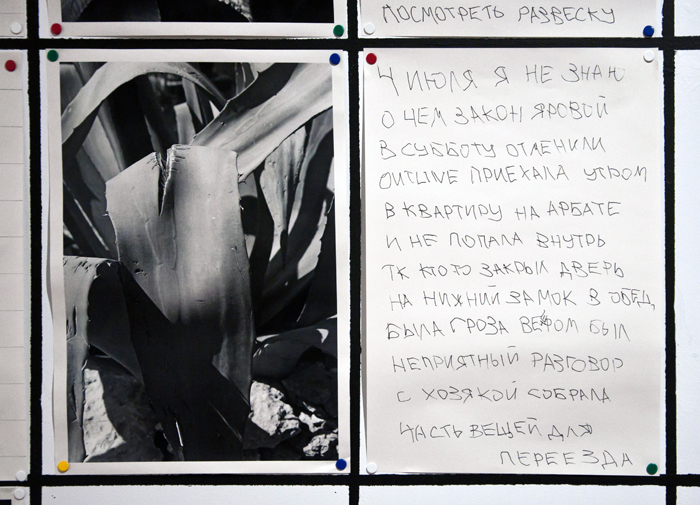
В.Д.: Мне показалось, что вне зависимости от того, должно ли быть высказывание или не должно, у Саммана его, пожалуй, нет, а есть такая мегакуратоская жидкая разбрызганная структура, к которой можно подверстывать работы. Но с идеей от этого ничего не происходит, просто потому, что сама по себе она уж очень расплывчатая. А вот со стратегическими проектами другая история. Я не могу сказать, что каждый из них был четким с идейной и концептуальной точек зрения, но это две выставки, у которых есть начало, конец, четкая внутренняя драматургия, тезис, антитезис, и в конце концов наступает синтез. Может быть, этот синтез наступает не в том месте, где кураторы задумывали, но в голове зрителя он точно происходит. В результате мы имеем две блестящие выставки, в качестве которых, в отличие от основного проекта, трудно сомневаться. Именно поэтому эти три проекта плохо монтируются в единое поле обсуждения.
В.М.: Что касается Надима Саммана, то я как практикующий куратор чувствую, что вся его энергия ушла на имитацию биеннальского формата. Это похоже на то, как когда-то вся энергия Каролин Христов-Бакарджиев ушла на то, чтобы никто не поставил под сомнение ее способность сделать «Документу». И это назойливое желание сделать каноническую «Документу» стало самым главным уязвимым местом ее проекта. Все форматы, которые она перебирала, были имитацией заданного «Документой» формата, следованием ему и, следовательно, внутренней от него несвободы. И нечто похожее я почувствовал в проекте Саммана: его вела не потребность высказаться, а желание всех убедить, что он способен сделать настоящую биеннале.
В.Д.: А еще никто даже не пытался сделать проект, разрушающий либо игнорирующий существующие выставочные форматы. Но обязана ли молодежная биеннале не только давать молодым художникам выставиться, молодым кураторам — доказать, что они умеют работать с форматами, но также разрешать, позволять институциональные эксперименты? Делайте биеннале, но так, чтобы она ни в коем случае не была биеннале.
В.М.: С этого мы и начали нашу беседу. Думаю, это было бы такой же неомодернистской обязаловкой, такой же неоавангардистской догмой, таким же принуждением к радикальной позиции, как и сама идея молодежной биеннале, с ее апологией обновления и свежести. Радикализм сам по себе может принимать очень разные формы, социальный идеал может утверждаться через радикальное одиночество, обновление может предъявлять себя через реставрацию. А можно предъявлять формат в чистом виде, выводя его на метауровень. Возможность интересного живого высказывания не лежит непременно в обновлении форматов, но верно и то, что любая живая интересная кураторская идея границы форматов ощупывает и «напрягает».