Дмитрий Гутов глазами современника
Сооснователь Общества Радек художник Петр Быстров продолжает вспоминать своих коллег и случаи из жизни, с ними связанные. Героем новой «главы» воспоминаний стал художник Дмитрий Гутов.
 Дмитрий Гутов. 1997. Фото: Игорь Мухин. RAAN, архив Игоря Мухина
Дмитрий Гутов. 1997. Фото: Игорь Мухин. RAAN, архив Игоря Мухина
Гутова я впервые идентифицировал как Гутова на чердаке у Бакштейна[1], на очередном заседании нашего штаба, то есть выездного семинара, организованного Осмоловским* (в 2024 году Минюстом РФ признан иноагентом) и до того проходившего на съемной квартире у Макса Каракулова в Перове.
Гутов пришел и взял слово. Он не был своим человеком, но входил в число тех, кого следовало выслушать, так как имел репутацию теоретика искусств. В его манере излагать прописные истины со ссылкой (чаще других) на Лифшица[2] больше всего удивлял энергичный фальцет, которым он, усмехаясь в бороду, пространно комментировал фрагмент какого-нибудь теоретического текста. В тот вечер темой заседания почему-то был секс. Вскоре после, уже в кулуарах, прозвучало нечто, давшее основание атрибутировать Гутову эротоманию и так называемую сексуальную озабоченность. Позднее об этом ходили слухи. Впрочем, слухи есть вещь как бы опасная, могущая подпортить репутацию, и это совершенно не «монтировалось» с известной вседозволенностью, принятой в арт-среде. Эротоман? Ну и отлично, будь им! В чем проблема?
А все же наша компания исповедовала нечто вроде программной и при этом нигде не прописанной асексуальности. Мол, вопросы пола давно изжиты (кем? В искусстве? Но не проживаются и не «изживаются» ли они каждый раз заново — самим человеком?), и быть каким-то охотником до юных дев, юбок и прочего в этом роде художник как бы не мог. Во всяком случае, такими не были ни Осмоловский*, ни Авдей, живший один и никогда не говоривший ни слова о женщинах. Этим они, будучи лишь немного моложе поколения наших отцов, выгодно отличались от нас, в ту пору молодых и даже юных людей — таких, которые любили подколоть, сунув нос в вопросы устройства личной жизни.
Я уже писал[3], что в художественной среде за каждым заметным участником был закреплен как бы неписаный статус-идентификатор: Пименов — поэт, Врубель — хозяин домашней галереи, Кошляков — живописец и так далее. Так вот, Гутов слыл экспертом по части политподготовки. Он разбирался в эстетике марксизма, и, хотя из нас, художников Общества Радек, марксизмом никто особенно не интересовался, при общем крене в левизну слово такого знатока, как Гутов, было весомым.


Это происходило, кажется, ранней весной 2000 года, а уже летом вышла неприятная история из числа тех, что остаются в памяти навсегда и не могут быть оттуда никакими средствами выкорчеваны. Сейчас можно сказать только одно: промах дали обе стороны.
Максим Каракулов только что придумал акцию «Демонстрация», в будущем — можно сказать без преувеличения — прославившую Общество Радек на весь арт-мир и ставшую визитной карточкой нашего комьюнити. У этой акции совершенно биографические, даже бытовые корни. Дело в том, что Максим тогда работал продавцом в магазине «Гилея» на Большой Садовой улице, прямо возле галереи XL, а жил у меня, и каждое утро проезжал на метро пять станций по прямой до «Баррикадной». Оттуда он шел пешком к Садовому кольцу и, слившись с толпой, подолгу ожидал разрешающего сигнала светофора.
Так он увидел, как растет уровень негодования среди народных масс: торопящиеся по своим делам обыватели шипели, пыхтели, фыркали, не в силах преодолеть десять полос автомобильного движения до тех пор, пока не загорался зеленый. Тут-то Макс и проникся образом свободы, захватывающей толпу в тот момент, когда светофор позволяет начать переход улицы; каждый пешеход спешит со своими, никому не ведомыми, но в целом предсказуемыми мыслями, и надо всего лишь развернуть над их головами транспарант, то есть публично продемонстрировать гражданские нужды. Это был протофлешмоб: нью-йоркские флешмобы, которые дали начало движению, впоследствии обретшему популярность, прошли лишь годом позднее, так что Каракулов должен считаться изобретателем этой формы осознанного общественного досуга.
Гутова мы пригласили заснять акцию на видеокамеру, которая была только у него. Он охотно согласился, приехал и отснял множество дублей перехода улицы с различными транспарантами над головами пешеходов: создавалось полное впечатление живой, искренне спешащей навстречу переменам толпы. Видео мы вместе монтировали дома у Алекса Булдакова.

Следующим этапом взаимодействия, на котором в ярком свете проявилась Гутовская приверженность женскому обществу, стало совместное празднование 32-го дня рождения Осмоловского* — 1 июля 2001 года. Собраться решили у меня в Строгино: рядом была река, и жаркий летний день мы могли провести за беседами в лодках. Обещал приехать и Гутов. Гости собирались. Вот и сам Осмоловский* уже давно на месте, а Гутова все нет. Мобильные телефоны еще не распространились, у кого-то был пейджер, но сообщений от Гутова не поступало. Вышли к реке — и что же?
В одной из лодок поджарый бородатый мужчина в компании двух юных дев гребет что есть мочи взад-вперед, общается с молодым поколением, наверняка склоняя к эстетике марксизма. Гутов сдерживаться не умел, предпочитая сухому цеху мужчин-интеллектуалов «джазовый стандарт» летнего отдыха.
По прошествии некоторого времени пошел слух, что Гутов показывает на Западе смонтированную документацию «Демонстрации» исключительно под своим именем, а на вопросы о том, кто ее осуществил, отвечает, будто нанял группу молодых ребят.
Хватило же нам наивности обратиться к художнику, что называется, в самом расцвете сил, к тому же к человеку из плоти и крови, страждущему самой что ни на есть карьеры в арт-мире, — за видеокамерой, будто он оператор! Гутов не выдержал соблазна выдать себя за единственного автора и, не согласовав с нами, наложил на видео музыку группы «Пинк Флойд» (он 1960 года рождения, и, очевидно, «Пинк Флойд» — музыка его юности, по всей вероятности, переживаемая им как звуки свободы), был приглашен на европейскую выставку и там, не моргнув глазом, представил видео как свое детище.
Сказать, что мы были возмущены, — мало. Обескуражены и шокированы проворством вчерашнего доброго приятеля. Но кто-то стал нам говорить, что и Гутова понять можно: солидный художник, вложил время, поработал глазами и руками, смонтировал произведение — не за просто же так? Это звучало как довод, но Гутов, не объяснившись должным образом, зачем-то стал ссылаться на практики шоу-бизнеса, где, по его словам, отношения, управляемые прежде всего скоростью запуска продукта, позволяют вычеркивать недовольных из числа пайщиков-концессионеров. Так, вместо того чтобы обсудить возможное соавторство, мы с Гутовым разошлись по разные стороны баррикад.
И когда в Москву с визитом в редакцию «Художественного журнала» прибыла группа кураторов грядущей четвертой «Манифесты», Виктор Миизиано, надо отдать ему должное, разуверил их в представлении о том, что авторство яркой работы принадлежит Гутову. Оказалось, не ему — нам.
Как, по словам Гутова, поступают в шоу-бизнесе, так поступили и мы. Пересняли, сменив локацию, нарисовали новые транспаранты. Автором некоторых слоганов, использованных в демонстрации, на этот раз поименованной Manifestations, стал Дима Пименов, а самих растяжек на красной ткани — Давид Тер-Оганьян.
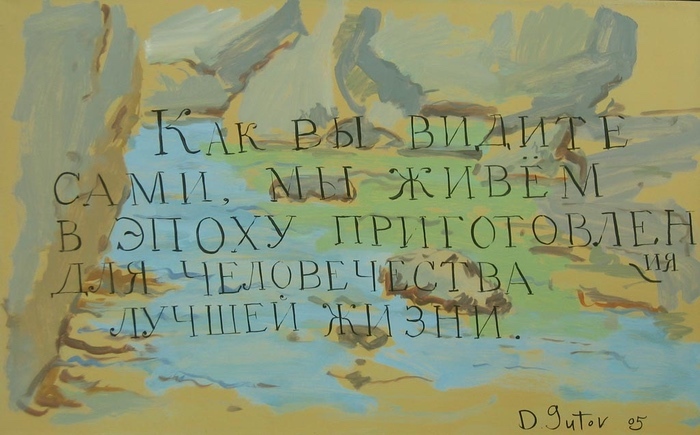
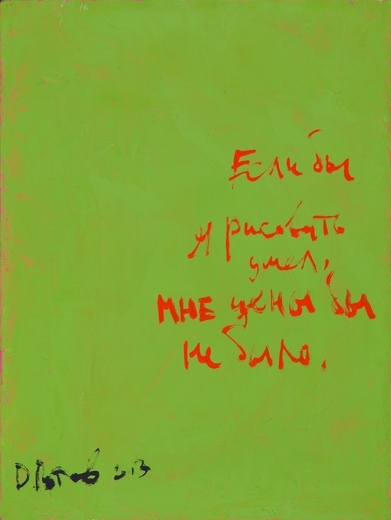
Франкфурт-на-Майне встречал нас с триумфом, а обе работы — гутовская «Демонстрация» и радековская Manifestations — остались в истории и даже, случалось, экспонировались на одной выставке. Так было, например, в крупном проекте Collective Creativity в Музее Фридерицианум в Касселе, известном на весь мир тем, что там проводится documenta: кураторы, тяготевшие к эстетской социальной критике и любившие «Пинк Флойд», приглашали гутовскую работу, а приверженцы живых практик самоорганизованных сообществ — нашу.
Примерно в то же время Гутов с Осмоловским* оказались «в телевизоре» — на передаче журналиста Гордона, названной по фамилии ведущего. Гордон приглашал в ночной эфир различных специалистов по самым отдаленным уголкам науки и жизни. В студию приходили нейробиологи и геологи, демографы и этнолингвисты. В целом контент был трудноперевариваемым, а занятая передачей ниша — совсем новой, как бы еще не существовавшей. Тема визита двух художников в студию Гордона почему-то фокусировалась на наследии Ленина: суждено ли его учению возыметь новый виток актуальности в теперешней России? В последовавших печатных выпусках ночных бесед у Гордона, а их стенограммы были изданы толстыми книжками, именно этого диалога не найти: ленинцы в книгу не вошли.
Когда в 2001 году стали стремительно распространяться электронные способы коммуникации, а люди обзаводились адресами электронной почты, одним из первых я получил — продиктованный им нараспев фальцетом, прямо на улице, — гутовский адрес. Звучало это так: «Гутов Дима… собака…» Имелся в виду графический символ, а не животное, которым был Кулик. В тот же вечер в районе метро «Бауманская», неподалеку от бывшей мастерской Авдея, мы сделали граффити, гласившее: «Гутов Дима — собака». Эта история описана в каталоге моего проекта «Граффити» (2001–2024) под названием «О тех, кого помню и люблю».
Летом 2003 года по моему приглашению Гутов принял участие в круглом столе, прошедшем в первый день нашей групповой многодневной акции «Голодовка без выдвижения требований» — в Зверевском центре. И надо сказать, что с тех пор мы… перестали видеться.
Вскоре ставшая регулярным и чуть ли не единственным костюмом художника нарочитая оранжевая кофта (термобелье?), конечно, и по сей день мелькает в толпе на вернисажах, в лекториях, иногда кажется, что и среди прохожих. Но это лишь отзвуки великого прошлого, не позволяющие усомниться в масштабе личности мастера.
Примечания
- ^ Институт проблем современного искусства, одним из основателей которого был Иосиф Бакштейн, долгие годы располагался в мастерской Ильи Кабакова на чердаке доходного дома страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре в Москве.
- ^ Позднее выяснилось: Гутов — марксист. — Прим. автора.
- ^ Застенчивым очкариком был Китуп. Он слыл поэтом даже больше, нежели художником (как Пименов слыл писателем, Осмоловский* — политиком, Кулик — акционистом, а Кошляков — живописцем)». См.: Быстров П. Китуп: человек-пропеллер // Артгид.




