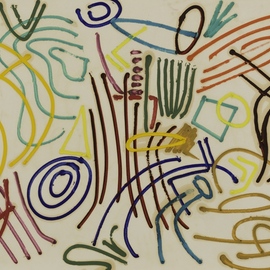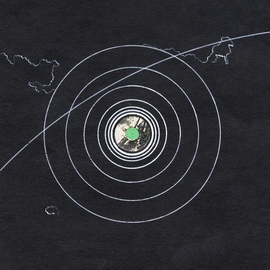Обратное плавание
На границе суши и моря, там, где река учится быть океаном, стоит колыбель российского флота — город Архангельск. Здесь работает Северный морской музей — не по форме, но по сути краеведческий, ведь именно море дало начало городу и хранит ключ к его пониманию. Среди документов, макетов кораблей и судовых приборов здесь обнаруживается нечто более важное — дух моря — чувство, которое трудно объяснить тому, кто никогда не видел большой воды. Задача эта подвластна только душе поэтической, поэтому к разговору о музее мы пригласили не только его директора Евгения Тенетова, но и художника Александра Пономарева. Получилась беседа о переводе морской темы на художественный язык, специфике и проектировании морских музеев, художниках-моряках и венецианских чайках. Материал подготовлен при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.
 Александр Пономарев и Евгений Тенетов в Северном морском музее. Архангельск, 2025. Courtesy музей
Александр Пономарев и Евгений Тенетов в Северном морском музее. Архангельск, 2025. Courtesy музей
Настя Дергоусова: Евгений, в одном интервью вы признались, что до 2015 года, когда стали директором Северного морского музея, ни с морем, ни с музейной работой связаны не были. Поэтому интересно, как вы разбирались в этой сложной, узкоспециальной теме? Были ли у вас проводники?
Евгений Тенетов: Вы правы. До того как мне предложили стать директором музея, что было совершенно неожиданно, я занимался разными городскими проектами, урбанистическими улучшайзингами и прочими модными в десятые годы вещами. Видимо, как активного и неравнодушного к городу человека меня и пригласили возглавить музей. К тому моменту он после длительной — более десяти лет — реконструкции выпал из культурного пространства не только России, но и самого Архангельска. Когда я говорил, что работаю в морском музее, меня спрашивали: где это вообще, у нас что, есть такой музей?
Так, первейшая моя задача состояла в том, чтобы вытащить музей на свет, рассказать, что это за место и о чем его главный нарратив. В силу того, что я долгое время работал в журналистике и пиаре (как главный редактор городского журнала Plus. — Артгид), эта задача — взять некий продукт и представить его — была мне ясна. Но скоро я понял, что и музей, и море — это не просто продукт, а целый мир. И прежде чем открывать его другим и популяризировать, нужно открыть его для самого себя.
Раньше, когда я пытался объяснить людям, что надо оставаться в Архангельске и развивать его, то чувствовал, что эти слова для молодых людей совершенно не работают. Зачем тратить свою жизнь на провинциальный, никому не нужный город, если перед тобой открыт весь мир? Но начав погружаться в морскую тему, я, как бы пафосно это ни звучало, открыл для себя ключ к Архангельску, нащупал его идентичность и сформулировал ответ, зачем на самом деле здесь стоит оставаться. До тех пор я будто бы вводил людей в заблуждение, призывал их к тому, чего сам не понимал. Как я начал разбираться в теме? Случилась первая любовь, удар током — и дальше я уже поплыл, поплыл в это море.
Настя Дергоусова: А как вы себе объясняете, почему до тех пор эта тема проходила мимо вас, историка и журналиста, долгое время живущего в городе?
Евгений Тенетов: Я задавал себе тот же вопрос. Видимо, это связано с тем, что я человек совершенно не технического склада. Вся корабельная тема моими художественными и крайне гуманитарными настройками будто бы отторгалась в какой-то общий отвал к машинам, котлам, технике и пьяным матросам. Как человек с историческим образованием я все эти взаимосвязи, конечно, понимал, но не интересовался ими.




Настя Дергоусова: Александр, у вас наоборот: вы выросли в Одессе, и близость моря, как я понимаю, во многом продиктовала ваш выбор профессии.
Александр Пономарев: Да. Я часто повторяю древнюю финикийскую (а финикийцы были одними из законодателей мореплавания и в техническом, и в политическом, и в идеологическом смысле) пословицу: человек должен треть жизни учиться, треть жизни плавать по морям и треть жизни заниматься искусством. Приблизительно по этой формуле я и живу. Последняя треть кратно увеличивается, но если объяснять простым языком, чем я занимаюсь, то, наверное, своим искусством я в какой-то степени развиваю морскую эстетику, поэтику и все, что связано с морем. Почему? Потому что я, так же как и Женя, очень люблю море. Оно во мне с рождения. Оно во всех нас: человеческая кровь по химическому составу практически полностью соответствует морской воде.
Я «художник судьбы» или «художник биографии», а для того чтобы биография превратилась в судьбу, нужно быть и поэтом, и художником, нужно смотреть на мир через художественную оптику. Это я и пытаюсь делать.
Я рисовал с детства; как и положено советскому ребенку, ходил в музыкальную школу, играл на скрипке, поступил в художественную школу, две спортивные секции, плавание и так далее. Но всегда мечтал стать именно моряком. После школы я поступил в Одесское высшее инженерно-морское училище, окончил его с красным дипломом. Затем отдал несколько лет жизни военному флоту — службе на подводных лодках специалистом по приборам управления торпедной стрельбой. Отдав Родине что положено, проработал почти девять лет в плавсоставе транспортного флота на банановозе. И никогда на протяжении всего этого времени не прекращал рисовать.
Когда по независящим от меня причинам морскую карьеру пришлось оставить, я начал думать, что делать дальше. После определенных приключений решил все-таки стать художником — для того чтобы остаться моряком. С тех пор я и плаваю в двух океанах — в реальном и в своих мечтах. Моя книжка называется «Обратное плавание», как одна из формул Платона: способность выстраивать перпендикулярно своему жизненному пути некую вертикаль, которая и позволяет выйти за пределы обыденного, дает содержание и смысл. В этом обратном плавании я и нахожусь, на этой вертикали рождаются философия и искусство: я возвращаюсь к своим детским мечтам, хожу в научные экспедиции, реализую художественные проекты, участвую в строительстве морских музеев — но за всем этим всегда стоят море и океан. В душе я остаюсь человеком, который просто очень их любит, чьи взгляды на жизнь они изменили и выстроили.





Настя Дергоусова: К художественной оптике и морской эстетике мы еще вернемся. Мне интересно, где находятся ваши точки взаимного интереса. Давайте поговорим про морской музей. Евгений, вы можете сформулировать, что это такое, в чем его специфика или, например, стратегия конкретно вашего музея?
Евгений Тенетов: Для меня любой морской музей — это работа с человеческой памятью. Краеведческие или художественные музеи есть практически в каждом областном центре, в них экспозиция строится от Адама до Потсдама, от первобытного человека до перестройки и развитого капитализма. Морские же музеи в России — в основном военно-морские. Но у нас совершенно другой подход: я сторонник романтизации и поэтизации. Мы говорим о море как пространстве художественном и эстетическом, о том, что такое «человек моря» и что это за особые меры ощущения.
Настя Дергоусова: Ваш музей в этом отношении не строго научный: в экспозиции нет четкой хронологии или нарратива, обширных текстов. Основная экспозиция стилизована под «парусный корабль», а наряду с историческими памятниками представлены разные вспомогательные материалы — модели, макеты, судовые устройства и приборы, часть из которых вам приносят посетители. Вы рассказываете о море с помощью личных вещей и историй, вовлекаете через собственное отношение. Насколько при этом вам важна точность исторической детали? Как соблюсти ее и не переврать, не предать некий кодекс чести морского сообщества, если он есть?
Евгений Тенетов: Безусловно, мы выполняем все стандартные обязанности музея. Помимо поэзии, о которой я тут говорил, ведется работа с подлинным предметом, документами, историей, фактом. У нас есть научный отдел и научные сотрудники, которые пишут статьи и книги, разрабатывают экскурсии.
Конечно, мы тут не только играем на гитарах, пьем ром и поем песни. За кулисами ведется в общем-то обычная, рутинная музейная работа. Это базис, без него никуда, но надстройка — самое важное. Это собственно та идея, дух, с которым живет музей. Если дух уходит, все превращается в военторг или комиссионку. Самое страшное для музея — это его смерть, ведь на самом деле музей — не про прошлое, а про будущее.
Настя Дергоусова: У вашей научной, экспертной деятельности и у музея поэтического, музея духа — одна аудитория или все-таки разная? Есть ли у вас задача, скажем, завлечь случайного посетителя романтикой моря, а потом помочь ему разобраться в теме и перейти в ранг специалиста?
Евгений Тенетов: Всегда есть задача максимум: влюбить, благословить и чтобы человек дальше в Арктику поплыл, голыми руками ловил белых медведей. Но мы начали с того, чтобы люди просто оказались в музее: с проведения концертов, тематических кинопоказов и ярмарок креативных индустрий. Выполнив эту задачу, мы поняли, что аудитория у нас очень разная: дети, подростки, беременные женщины, бабушки. Все они по-своему воспринимают музей, но есть некий общий дух обаяния. Мы понимаем, когда человек уже «наш». Часто к нам приходят папы с сыновьями: по ним видно, что их интересует, как устроен корабль, сколько у него иллюминаторов, лошадиных сил, какой он длины. Есть более поэтически настроенная аудитория или те, кто смотрит на все эстетически — им просто нравится, как выглядит кораблик или якорек. Но это, так или иначе, наши люди.
Я замечаю, что морская тема стала популярнее в городе в целом, власти уже смелее о ней говорят. Совсем скоро, в День российского флага, 22 августа, мы закладываем камень, на котором будет написано, что Архангельск — город, где впервые подняли российский триколор. Раньше это были просто исторические факты, а теперь мы ими еще и гордимся, лоббируем всячески. И я здесь не один, у нас есть прекрасное сообщество «Товарищество поморского судостроения» Евгения Шкарубы, верфь Глеба Плетнева, где строится старинный поморский коч[1].





Настя Дергоусова: Вы собрали сообщество внутри города, но у вас есть и проекты вроде «Матицы», к которым вы привлекаете экспертов и любителей за пределами Архангельска.
Евгений Тенетов: Да. Наш форум «Матица» был посвящен сохранению и возрождению традиций поморского деревянного судостроения. Раз в год мы собирали в Архангельске профессионалов и любителей со всего мира — к нам приезжали из Швеции, Норвегии, Финляндии, США. Благодаря программе «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина мы организовали и профессиональный форум, и экспедиции по поиску частей деревянных судов, и даже регату на карбасах[2], построенных по чертежам Соломбальской верфи[3].
Александр Пономарев: Где как не в Архангельске поднимать эту тему? Я знаю много морских музеев — и у каждого свой ракурс. Способ выбора ракурса и есть самое главное. Если команда находит этот правильный угол зрения, то и музей будет работать эффективно.
Я прекрасно понимаю давление: ведь морские музеи в основном были связаны с военным флотом. Это давало свои преимущества: существовали жесткие основания и политическая ситуация, на основе которых такие музеи и создавались. Например, фантастический Военно-морской музей находился в здании Старой биржи на Стрелке Васильевского острова в Петербурге (в 2013 году переехал в здание Крюковских морских казарм. — Артгид). Вокруг музея существовало сообщество профессионалов, его создавали художники, судомоделисты.
Но были и отрицательные моменты, потому что в определенный момент на эстетику в военно-морском деле перестали обращать внимание. Я всегда ругался с адмиралами: приходишь в гарнизон на острове в Северном море, а на улицах стоят торпеды и пушки, среди них играют дети. Это не плохо, но, с другой стороны, и ничего хорошего. Мы когда-то сделали музей в Полярном (Мурманская область): собрали работы у друзей-художников, РОСИЗО выделил нам работы из запасников. Я этим очень горжусь, потому что считаю важным, чтобы дети воспитывались в художественной среде.
Мне, например, очень не нравится, что питерский Военно-морской музей переехал из биржи в казармы. Само по себе место хорошее, но в бирже это был Морской музей с большой буквы, а здесь что-то другое. Пространство, композиция, ракурс и концепция — важнейшие составляющие музея. Для того чтобы смотреть картины Алексея Боголюбова или модели кораблей, нужно отойти от них на определенное расстояние, а в новом здании места мало. Нарратив существует, но пространства нет. А море — это пространство, понимаешь? Это очень важно.




Настя Дергоусова: Мы можем обрисовать карту морских музеев — и в России, и в мире? Можно ли их классифицировать: например, один работает по принципу романтизации, другой, наоборот, через последовательный научный рассказ? И на что вы ориентируетесь, проектируя свой музей?
Александр Пономарев: Нужно идти в Морской музей Барселоны в старых зданиях Королевских верфей, Морской музей Галата в районе Порто Антико в Генуе или Морской музей в Лиссабоне, в крыле монастыря Жеронимуш. В Амстердаме фантастический музей — в здании бывшего арсенала XVII века. Рядом с ним стоит полноразмерная реконструкция голландского торгового корабля XVIII века, ее тоже можно посетить. Или Морской музей Гамбурга — крупнейший в Германии. Много мест, у которых можно учиться, подсекать острым глазом — там все сделано очень серьезно.
Евгений Тенетов: Действительно, морские музеи бывают разными по нарративу, и по тону разговора, и по оптике. И одновременно они очень похожи: все так или иначе стремятся к варианту «красного уголка» — видимо, это какая-то часть военно-казарменной эстетики. Есть музеи, которые движутся примерно в том же направлении, что Музей Мирового океана в Калининграде — они говорят о море в целом: рыбы и корабли, капитаны и пассажиры, научно-исследовательская деятельность и круизные лайнеры — обо всем, включая ракушки. Есть морские музеи регионального плана, которые рассматривают конкретный город или местность, — такое морское краеведение. А есть морские музеи-верфи, при которых существует реконструкторская верфь. Например, Центр сохранения судов в Хардангере (Норвегия), огромный музейный комплекс с историческими кораблями в Портсмуте (Великобритания), где восстанавливают суда с использованием традиционных технологий. Во Франции есть знаменитый проект реконструкции фрегата XVIII века Hermione, на котором Лафайет отплыл в Америку. Корабль реконструировали на исторической верфи Арсенала Рошфора с использованием максимально аутентичных методов. Сейчас он уже готов и совершает плавания, но верфь продолжает жить как музей. В Испании такого много.
Я пытаюсь поддержать эту линию в дружбе со Шкарубой: наш музей является соучредителем его верфи, и мы делаем много проектов в спайке. Сейчас готовим выставку про йолу[4], которую они строят. Поэтому наш музей, наверное, относится к этому типу — музей с верфью.




Настя Дергоусова: Александр, вы видели разные морские музеи — у нас и за рубежом. Можете ли вывести, на ваш взгляд — моряка и художника, некую формулу идеального морского музея?
Александр Пономарев: Сложно сказать. Часто музеи возникают, как в древности — из вундеркамер, личных пристрастий и коллекций. Но я имел отношение к строительству разных морских музеев, в частности Музея Мирового океана в Калининграде, который мы уже упоминали. Его основатель, моя подруга Света Сивкова совершила настоящий социальный подвиг. Там стоит «Витязь» — научно-исследовательское судно, бывший банановоз, с помощью которого измерили глубину Марианской впадины. Света его спасла, отремонтировала и придумала музей. Когда я приехал туда в первый раз, «Витязь» был весь проржавевший, никому не нужный — прямо там я и жил, в душевой вместе с дворняжкой Яшкой. Со Светой мы делали какие-то объекты, мечтали о том, что это будет музей, и теперь — благодаря стараниям таких людей, как Света и вы, Женя, мечта исполнилась. В создании музея участвовал Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Там я делал первую презентацию фильма «Титаник» в Калининграде, заставил Сагалевича[5] привезти в музей Джеймса Кэмерона. Тогда музей еще только создавался, в его архитектуре не было никакого шара. Светлана — человек эмоциональный, Сагалевич сопротивлялся. А я ему говорю: дурак ты, пройдет время — и «Мир» твой никому не нужен будет, а музей может его сохранить. Так и вышло.
Возвращаясь к проектированию музея. Недавно я открыл «Центр Искусств Свободных Стихий» — там, как и здесь, места немного, но в общем достаточно. В наше время благодаря компьютеризации и искусственному интеллекту музейное дело меняется очень сильно. Модное слово «экосистема», по сути, говорит нам о том, что совсем необязательно иметь огромное пространство. Бывает, что пространство есть, а заполнить его нечем. В Китае за десять лет построили 360 музеев современного искусства. Триста шестьдесят! Понимаете? Кстати, там есть и музеи на кораблях. Я завидую, конечно.
Результаты творческой и мыслительной деятельности, определенной эстетики и взгляда сегодня доставляются разными путями. Все спрашивают, для кого Пономарев делает биеннале в Антарктиде — для рыб и птиц? А надо сказать, иногда рыбы и птицы более благожелательные зрители, чем кураторы. Но без идеи, концепции, без какого-то ракурса и взгляда музей просто не может существовать.





Настя Дергоусова: Я подвела нас к теме музейного проектирования. Евгений, вы сейчас создаете музей на базе теплохода «Коммунар». Каким он будет?
Евгений Тенетов: Наш «Коммунар» был построен в 1940 году на Исакогорском судоремонтном заводе, провел почти восемьдесят навигаций, перевез в общей сложности более десяти миллионов пассажиров. К нам он перешел от Архангельского речного порта в 2019 году, и после того, как мы завершили внешний ремонт, встал вопрос о том, как вводить его в оборот. Просто стоять у пристани он не мог — это ведь не какой-то невероятный красавец, а достаточно страшное судно, советское, грубо сделанное, совершенно неэстетичное — простой речной трамвайчик, каких было много. Но в городе к «Коммунару» очень теплое отношение — восемьдесят лет он возил людей на острова с работы и на работу. Есть фотография, где женщина везет на руках маленького ребенка, а рядом на палубе гроб — жизнь и смерть, все в одном.
В силу того, что на внутренний ремонт денег не было, мы пригласили Московский музей современного искусства и вместе с художниками сделали несколько арт-интервенций, которые открыли наш проект «Северная Двина — река памяти». Вот когда мы нарушили шаблоны нормальной организации музейного пространства на кораблях! Ведь обычно это реконструкция: каюта капитана, ходовой мостик и так далее. А у нас — полный развал, все сломано, проржавело. Хотя с точки зрения безопасности и устойчивости «Коммунар» полностью приведен в порядок, находится под регистром судоходства, все нормативы и ограничения на него распространяются так же, как на настоящее судно. У нас в штате даже есть матрос, который за ним следит.
И вот в этом хтоническом пространстве стояла задача поговорить о реке. Так, пять художников взялись за разные зоны на пароходе — носовой трюм, ходовые мости, машинное отделение, корму, пассажирский салон — и подготовили свои высказывания. Художницы Наташа Романенко и Наташа Суворова оплели «Коммунар» канатами — как гусеницу, которая готовится превратиться в бабочку. Одновременно он как бы «врос» в берег. Дарья Чагина переосмыслила пространство кормового салона. Тот, кто заглядывал в машинное отделение, обнаруживал там сердце корабля — лампу, которая с интервалом сердцебиения пульсировала светом. Это работа Дарьи Орловой. Уже в рамках другого проекта дизайнер Антон Зубов сравнил теплое отношение жителей к «Коммунару» с отношением к домашнему коту; с обратной стороны металлической обшивки судна он сделал датчик: посетитель прикасался к нему — и слышал урчание кота.
Это совершенно не вписывается в классическое оформление музейного судна, но вышло очень удачно. Отчасти так произошло от бедности, ведь единственная возможность (и смысл) зайти на пароход в его текущем состоянии была в том, чтобы выразить там что-то художественными средствами. Когда мы сделали этот проект, я понял, что и дальше хочу так. Мы получили еще один грант Фонда Потанина на музеефикацию судна: планируем сделать реконструкцию рубки и ходового мостика (в угоду запросу — для всех, кто хочет покрутить штурвал, ударить в судовой колокол и сфотографироваться), а дальше будет выставочное пространство для художников.

Александр Пономарев: Это вполне укоренено и в истории. Недаром Помпей Великий говорил: «Жить не обязательно, а плавать по морям — необходимо». Сейчас, когда джентрификация касается уже не только архитектуры, новое поколение понимает, что нужно иначе подходить к пространству — утилитарному вообще и уж тем более музейному. Если не поменять отношение к аудитории в музее, не разговаривать с ней ее же языком, никакого диалога не произойдет. Я часто военным морякам это объясняю, они не могут понять, для чего нужно современное искусство, — им кажется, это издевка какая-то. Я говорю: «Ребят, а кто к вам на лодку придет служить? К вам придут молодые люди, у них совсем другое мышление». Этому процессу нельзя помешать, как нельзя управлять искусством. Многие испытывают такую иллюзию и пытаются, но это невозможно.
В каком-то смысле морскому музею даже проще внедрять элементы искусства в свою деятельность. Ведь что касается художников, у меня отличная компания. Если бы Татлин не был моряком и не знал устройство кораблей, рангоута[6] и такелаж, которые мы видим на первом этаже музея, никогда бы и конструктивизма не было. Если бы Гоген не был моряком, то Ван Гог бы себе ухо не отрезал. Если бы Римский-Корсаков не был морским офицером, я бы не читал стихи в промежутке между его произведениями на своей выставке в Третьяковке. Эти люди были привиты морем, океаном. Они искали новые рубежи, новые пространства. Мне это очень близко. Венеция — мой любимый город, где я жил и где поднял свою лодку Subtiziano на биеннале в 2009 году — там мореплавание и искусство переплетены настолько тесно, что уже сам город — музей мореплавания и искусства.
Евгений Тенетов: И первый в мире морской музей, кстати.
Александр Пономарев: Да, я его очень люблю. Не успеваю только никогда, потому что он работает до двух часов. В Венеции же встанешь, выпьешь шампанского с видом на Сан-Марко, пройдешься — уже и музей закрылся!
Евгений Тенетов: Там рядом прекрасный барчик есть.
Александр Пономарев: Я вам прочитаю стихотворение, которое написал в этом барчике два месяца назад. Это мое любимое место: вино и маленькие закусочки — чиккитино, баккалао, бутербродики, разные морские гады, сардинки — и много вина. Красиво. Приезжая в Венецию, я обязательно туда хожу.
Чайка с лету на халяву мою съела баккаляву.
Проплывали гондольеры, я, конечно, пил вино,
Она сверху подлетела, крылья серые, а тело
Чисто бело — даже побелее мела, — совершенное оно.
Это было на канале, где готовят биеннале.
Предвкушенье, поглощенье, рот открыл и мир лакал,
Я стоял у парапета, и лучи дневного света
Поднимали настроение, красным красен мой бокал.
Прямо в глаз светило солнце. Немцы, турки и японцы
Подкреплялись с аппетитом, запивая вкусноту.
А я застыл седой и грустный об украденной закуске
С словом матерным во рту. Самый вкусный чиккитино
Эта хитрая скотина утащила на лету.
Но я даже не в обиде, я немного даже рад,
Что явился в этом виде совершенный аппарат
В совершенном пейзаже всюду гондолы снуют,
Крылья белые сверкают, все вокруг едят и пьют
Был налет подобен мигу, пальцы держат пустоту.
Хоп! И завернулись в фигу — и в размах и красоту.
Евгений Тенетов: Прелесть какая! Прямо там оказался!
Настя Дергоусова: Может быть, вам нужна поэтическая лаборатория, Евгений?
Евгений Тенетов: Абсолютно!
Александр Пономарев: Давайте еще одно прочитаю — важное стихотворение для музея.
Море зовет —
свои линзы протри,
солнце где-то встает.
Если море внутри, то оно и зовет.
Режь меня без ножей — я не чувствую боль.
Сыпь скорее уже на тоску мою соль.
Пыль скопилась в углу, влажный нужен замах;
Раствори мишуру на закисших томах.
На прогнивших словах суеты городской
Разотри, раствори все водою морской.
Преврати эту пыль в океанскую муть,
где взбивают винты твой непройденный путь.
Половина живца — заряди карабин,
постреляй в небеса из проклятых глубин.
Только волны вольны — кто-то манит, бегут;
где с краев валуны, берега берегут.
Замахнись гарпуном на потерянный сон;
там всегда об одном — или ты, или он.
Ты — разделанный кит, выпускаешь фонтан
из застрявших обид в бесконечный туман.
И оттуда сюда, носом гребни дробя,
заплутавший фрегат поплывет на тебя.
По чернильной воде пролетит-проскользит,
и бушпритом везде твое тело пронзит.
Всё вокруг — так и есть. А не понял — расстрел.
Принесут тебе весть пять от компаса стрел.
И увидишь красу рыб небес или стран,
повисишь на носу, как святой Себастьян.
Капитан всех стихий, всё еще впереди.
Если море зовет — то в него и идти.
Евгений Тенетов: Прекрасно. Даже не знаю, как дальше и беседу вести.
Александр Пономарев: Вот и ответ на вопрос, для чего нужно искусство. Сегодня, кстати, праздник Преображения, в древнегреческом метанойя — «перемена ума», «переосмысление». И хоть я и не люблю это слово, но одна из важных «функций» искусства — это преображение.
Когда я был молодым моряком, то выходил на палубу в шторм, стоял у трубы и смотрел. В тот момент обуревают такие чувства, что понимаешь декартовскую формулу — только позже я узнал, конечно, что это декартовская формула: мир уже сделан, он свершился и твоя человеческая задача — что-то к нему прибавить. Ситуация постоянно меняется, надо актуализировать содержание в том числе старого искусства, а сделать это могут только художники в широком смысле слова: и живописцы, и поэты, и писатели.
Примечания
- ^ Парусно-гребное судно поморов XI—XIX вв.
- ^ Парусно-гребное промысловое и транспортное судно поморов XII—XIX вв.
- ^ Соломбальская верфь была создана по распоряжению Петра I в 1693 году на острове Соломбала недалеко от Архангельска.
- ^ Небольшая легкая лодка, использующаяся как вспомогательное судно при больших кораблях или для прибрежного плавания.
- ^ Анатолий Сагалевич — глубоководный исследователь, руководитель создания обитаемых аппаратов «Мир».
- ^ Конструкция для постановки и несения парусов.