Текущее состояние художественной критики. Часть 1
В обсуждении положения арт-критики в современной культуре, которое состоялось 14 декабря 2001 года в Нью-Йорке, приняли участие критики и историки искусства Джордж Бейкер, Розалинд Краусс, Бенджамин Бухло, Джеймс Майер, художник Андреа Фрейзер, историк и теоретик искусства Дэвид Джослит, куратор и критик Роберт Сторр, художник и критик Джон Миллер, а также историки искусства Хэл Фостер и Хелен Молсуорт. Эта дискуссия, опубликованная в журнале October №100 (Spring 2002), затрагивает вопросы, которые ставились и осмыслялись несколькими поколениями художественных критиков в США: связь критики и художественной практики, определение и функции критики, ее взаимоотношения с арт-институциями, популярной культурой и рынком, поиск путей, ведущих к обновлению существующих языков и стилей высказывания. Перевод этой важной полемики будет публиковаться в «Артгиде» в нескольких частях. Редакция благодарит Дмитрия Потемкина за помощь в подготовке публикации.
 Мэл Бохнер. Рабочие зарисовки и другие видимые вещи на бумаге, которые не обязательно рассматривать как искусство. 1966. Четыре идентичные папки с вкладышами. © Mel Bochner. Фото: melbochner.net
Мэл Бохнер. Рабочие зарисовки и другие видимые вещи на бумаге, которые не обязательно рассматривать как искусство. 1966. Четыре идентичные папки с вкладышами. © Mel Bochner. Фото: melbochner.net
Джордж Бейкер: Я хотел бы начать цитатой из «Критики и кризиса» Поля де Мана (Поль де Ман — американский философ и литературовед, исследовал риторику литературной критики и теорию деконструкции, многие годы преподавал в Йельском университете* (в июле 2025 признан нежелательной организацией в РФ). — Артгид). В этом месте де Ман выделяет цикл новаций и устаревания, характерный для художественной критики конца 1960-х годов, — цикл, который, как мне кажется, сам сегодня устарел:
Укоренившиеся правила и конвенции, делавшие критику краеугольным камнем интеллектуального истеблишмента, настолько подверглись коррозии, что вся доктрина грозит обрушиться... Кризис нынешней ситуации, если ограничиться только внешними симптомами, заметен уже в той неправдоподобной поспешности, с которой противоборствующие направления сменяют друг друга, объявляя безнадежно устаревшим все, что еще недавно казалось крайней точкой авангардизма. Редко когда обращались столь свободно с этим опасным словом «новое»... сегодня почти каждая выходящая книга знаменует собой появление nouvelle nouvelle critique.
Это высказывание может вызвать у кого-то из нас ностальгию, поскольку сегодня мы не видим того постоянного обновления критического дискурса, о котором говорит де Ман, — обновления, которое прежде оборачивалось укреплением позиций художественной и литературной критики за счет открытий, почерпнутых из других областей — от философии и социологии до структурной лингвистики, антропологии и психоанализа. Критики, действующие в условиях междисциплинарной открытости критического дискурса, такие как Крэг Оуэнс, некогда мечтали уничтожить культурное «разделение труда». Но уничтожен — пожалуй, даже каким-то мазохистским жестом — оказался не столько элитизм модернистской критики, сколько общая трансдисциплинарная значимость самой художественной критики: междисциплинарность стала предпосылкой для все большей эзотеризации языков и привела к отказу от территории, которую художественная критика всегда считала своей и всячески отстаивала. Сегодня речь пойдет не о том, признаем ли мы художественную критику устаревшей; меня интересует понятие кризиса: как указывает Поль де Ман, оба эти явления — критика и кризис — всегда шли рука об руку, и зачастую это оказывалось весьма продуктивно. Работать в сфере художественной критики сейчас сложно, как никогда. Какие еще составляющие этой непростой ситуации, этого кризиса, мы можем вычленить сегодня?
Розалинд Краусс: Приведу один пример того, что изменилось. Раньше, как мне кажется, дилеры считали, что произведение искусства не может существовать в дискурсивном вакууме, что своим существованием оно отчасти обязано критическому дискурсу. И отсюда возникала необходимость в каталогах с серьезными критическими статьями. Эта потребность, которая наличествовала как у художника, так и у дилера, за последние десять лет, кажется, ослабла настолько, что по большому счету институт таких каталогов исчез. Заменил их, похоже, сам факт того, что художник регулярно выставляется в именитых галереях, — этого внезапно оказалось достаточно. Понимание, что существует определенное дискурсивное пространство, куда следует поместить художника, чтобы его творчество обрело значимость, почти исчезло и из авторитетных художественных журналов.
Бенджамин Бухло: У меня есть объяснение. Я полагаю, что последние примерно двадцать лет мы являемся свидетелями невиданного прежде абстрагирования, или даже экстрагирования, то есть невероятного уровня специализации. Как только сошло на нет традиционное представление о том, что художественные практики дают критическое (или даже утопическое) измерение опыта, нам осталось уверовать в примат институциональных и экономических интересов. Суждение критика обесценилось, когда куратор получил организационный доступ к аппарату культурной индустрии (международные биеннале и групповые выставки), а коллекционер — непосредственный доступ к предметам на художественном рынке или аукционе. И все, чего ждут от критика сегодня, — это компетентное суждение о качестве и высококлассное знаточество, поставленное на службу инвестиционной экспертизе. Я, безусловно, сгустил краски, но лишь для того, чтобы сказать, что в структуре инвестиций критика не нужна, нужны лишь эксперты. Не нужна критика и «голубым фишкам».
Критика, традиционно понимаемая как голос, который не зависит от институций и рынков и связывает воедино разные части публичной сферы авангардной культуры, очевидно, должна была исчезнуть в первую очередь — и традиционные функции музея последовали за ней. Оба этих элемента публичной сферы искусства перешли в разряд мифических и устаревших, и никто больше по-настоящему не хочет и не обязан знать контекст, историю, интенции и устремления художественной практики.
Я думаю, что наша дискуссия дает нам прекрасную возможность взглянуть на эти изменения с разных точек зрения и позиций. За этим столом сидят разные люди: художники-критики (художники, работающие в весьма критической манере), два или три поколения художественных критиков и историков, полемизирующих друг с другом, и критик, являющийся крупным музейным куратором.

Андреа Фрейзер: Я хотела бы на минуту вернуться к словам Розалинд и заметить, что важно различать разные типы критического дискурса и письма об искусстве. Я полагаю, что нам стоит как следует продумать определение критики. Например, если мы определяем критику через критический анализ, то можно ли считать критикой статьи в галерейных каталогах, которые по сути своей являются маркетинговыми инструментами? С другой стороны, если мы определяем критику как письмо об искусстве, то в вопросе создания художественной репутации «серьезные» статьи в каталогах и журналах явно проигрывают популярной прессе и популярным медиа.
Бенджамин Бухло: Вы не могли бы привести пример?
Андреа Фрейзер: Яркий пример — Лондон. Имя «Молодым британским художникам» в гораздо большей степени создала британская пресса, чем местный художественный рынок, на котором они представлены слабо. В США журналы о моде и дизайне сегодня играют огромную роль в построении художественной карьеры, они делают рекламу и тем самым формируют рынок.
Дэвид Джослит: Мне кажется, важно подумать о том, что критика делает на дискурсивном уровне. Традиционно ее функцией было суждение или подробный анализ. Что касается вступительной фразы Бенджамина, я думаю, что критика по-прежнему существует в форме интерпретации, однако что сегодня действительно сложно — так это сохранить критику как форму весомого суждения. Любопытно, но я тоже считаю, что такой тип суждения сегодня имеет место в популярных СМИ. YBAs, таким образом, оказались своего рода явлением популярной культуры.
Бенджамин Бухло: YВАs?
Дэвид Джослит: Да, «Молодые британские художники». [Смеется.] Наверное, это симптом.
Джеймс Майер: Я бы хотел затронуть практическую сторону, то есть поднять вопрос о связи критики и художественной практики. Создается впечатление, что художникам сегодня по большей части нет никакого дела до критики, что они остаются в стороне от тех вопросов и разногласий, над которыми размышляют многие из нас и которые были вынесены на обсуждение в том числе и благодаря присутствующим. Мне кажется, что интерес к критике утрачен, утрачена вера в то, что она необходима и ценна сама по себе, что на нее стоит обращать внимание. И кроме того, мы можем заметить (хотя, возможно, эта связь менее очевидна) отсутствие интереса к критицизму — художественному методу, связанному с критической мыслью и критическими вопросами. Как правило, художники в наши дни не удосуживаются отвечать на критику и вступать в диалог с критиками. Разумеется, в артистической среде существует старая традиция выказывать равнодушие к критике и, по примеру Дэна Флавина или Виллема де Кунинга, презирать критиков. Но на самом деле очень часто художники не были столь равнодушны и жадно читали критические статьи. Однако сегодня ситуация выглядит иначе.
Роберт Сторр: Если критика не воспринимается всерьез, то причину отчасти следует искать в том, что высказываемое или по крайней мере язык и стиль высказывания утратили полезность и эффективность. Если вы стремитесь придерживаться определенного стиля аргументации и излагать определенные доводы, то необходимо понимать, что на молодых художников уже не действуют негласные нормы и тон критики, доминировавшей в 1970-е, 1980-е и в известной мере в начале 1990-х годов. Таким образом, способ постановки вопросов принципиально важен, но не менее важны манера письма и язык критических статей. Если вы не получаете отклика сейчас, это не значит, что людей не заинтересовали те принципиальные вопросы, которые вы поставили, — проблема может быть в том, как вы их поставили.

Розалинд Краусс: Не могли бы вы пояснить конкретнее? Каких авторов вы имеете в виду?
Роберт Сторр: Я имею в виду, что если, например, Дейв Хики (Дейв Хики — американский арт-критик, много писал для Rolling Stone, ARTnews, Art in America, Artforum, Harper's Magazine и других изданий. — Артгид) имеет тот резонанс, который имеет, то это во многом определяется тем, насколько хорошо он пишет.
Бенджамин Бухло: Он действительно настолько резонансный автор? Я не притворяюсь, я действительно не знаю. Среди художников, вы хотите сказать?
Роберт Сторр: Он определенно резонансный автор.
Хэл Фостер: Притягательность Дейва Хики отчасти состоит в том, что он разработал своего рода поп-либертарианскую эстетику, неолиберальную эстетику, прекрасно приспособленную к рынку. В этом смысле многих привлекает и Артур Данто, поскольку представляет релятивизм с другой стороны, с философской, но этот релятивизм тоже угождает рынку.
Роберт Сторр: Даже с большой натяжкой я не могу сказать, что разделяю все взгляды Дейва, но я ценю его безразличие к проблемам рынка. Не думаю, что нам следует представлять себе рынок каким-то недальновидным, равно как и всемогущим, а также считать его чем-то новым. До того как мы начнем говорить о рынке абстрактно, в общем или на метауровне, мы должны честно признать тот факт, что люди всегда писали картины ради денег и всегда стремились произвести впечатление, а среди тех, кого удавалось впечатлить, были, собственно, покупатели. При этом я бы сказал, что главные читатели Хики — это не те, кто покупает предметы искусства. Если посмотреть на работы, о которых он пишет, то по большей часть они не так уж ценятся на рынке. В основном круг его читателей состоит из тех, кто любит читать и размышлять об искусстве.
Андреа Фрейзер: Здесь я снова хотела бы подчеркнуть, что существуют разные типы рынков искусства. Есть экономический, коммерческий рынок, но существуют и интеллектуальные рынки искусства, включающие в себя университеты, и рынки институциональные, такие как музеи, фонды и государственные учреждения. Все это тоже рынки в той мере, в какой они формируются конкуренцией за разные формы капитала и работают на утверждение ценности — не только экономической, но и исторической. Как сказал Ларри Гагосян, «графой “итого” для моих художников будет место в истории». Самым важным вопросом, с моей точки зрения, становится взаимосвязь между разными рынками и приоритетными для них формами капитала, то есть их относительная власть и автономия как внутри поля искусства, так и в рамках общей легитимации конкретных практик.
Джон Миллер: И, конечно же, авторы текстов об искусстве пишут по большей части не ради денег (поскольку этим не заработаешь); скорее, они пишут ради положения в академическом мире, которое обеспечивается публикациями. Они зарабатывают не столько гонорар, сколько авторитет, который обретают, только подтвердив недвусмысленно негативное отношение к рынку как таковому. Но когда их авторитет становится достаточно весомым, символический капитал всегда можно обратить в реальный.
Роберт Сторр: Это важное замечание, поскольку до сих пор мы упоминали только музеи и рынок, однако академический мир точно так же является институцией. Будучи активным участником студенческих движений 1960-х, я удивлен, что те, кто занимается критической деятельностью сегодня («институциональной критикой», например), похоже, целятся во все, кроме университета. Но я не уверен, что для него стоит делать исключение.
Бенджамин Бухло: Мы не собираемся исключать академический мир из круга рассматриваемых явлений, и комментарий Андреа к вашему прошлому высказыванию отчасти был именно об этом. Однако я бы хотел вернуться к поднятому мной ранее вопросу об увядании критики. Отчасти это началось еще в контексте концептуализма. Я могу представить все, сказанное ранее, под другим углом, сосредоточившись на том факте, что именно изнутри самых радикальных художественных практик 1960-х (и их последователей) была предпринята атака не только на товарный статус произведений искусства и на систему институций, в рамках которой оно существует, — одной из целей стал и вторичный дискурсивный текст, примыкавший к художественной практике. Критика и весь вторичный дискурс подвергались самым жестоким нападкам. И нам не следует это недооценивать или забывать об этом. Мы сможем выстроить более диалектический образ современной ситуации, если признаем, что компетенции читателя и зрителя достигли того уровня, когда вмешательство критика натыкается на невиданное доселе пренебрежение и осуждение.
Джордж Бейкер: Какие именно практики вы имеете в виду?
Бенджамин Бухло: Безусловно, к этим вопросам систематически обращалось все поколение концептуалистов, начиная с Джозефа Кошута (Кошут — не тот человек, которого я обычно первым призываю в свидетели, но в этом случае следует отдать ему должное) и заканчивая Андреа Фрейзер, которая считала роль критика излишней. Я думаю, что творчество Андреа вообще свидетельствует против необходимости критиков, поскольку она берет на себя — или как минимум пытается — те функции, которые, по крайней мере частично, раньше выполняли критики. Я пытаюсь сказать, что мы должны сформировать более диалектическое понимание, осознать, что исчезновение вторичного дискурса критики — это часть процесса, в ходе которого формируется компетентный зритель или читатель.
Как я уже говорил, другая сторона этого исторического феномена — то, что рынок отказывает критику в компетентности, публичная сфера музея больше не нуждается в третьем, независимом голосе между производителем и реципиентом. Сейчас функционирование искусства очень часто связывают с поддержкой властной структуры аппарата — но это, конечно, прямо противоположно процессу развития читательской и зрительской компетентности. И именно в такой момент, когда становится очевидным, что критику больше нет места в механизмах нашей культуры (и здесь я возвращаюсь к словам Роберта), на горизонте могут вновь показаться пафосные имитаторы вроде Дейва Хики. Притворяясь, что воскрешают устаревшую практику критики, они предлагают нам нечто, лишенное социальной функции и дискурсивной позиции, — некое критическое плацебо.
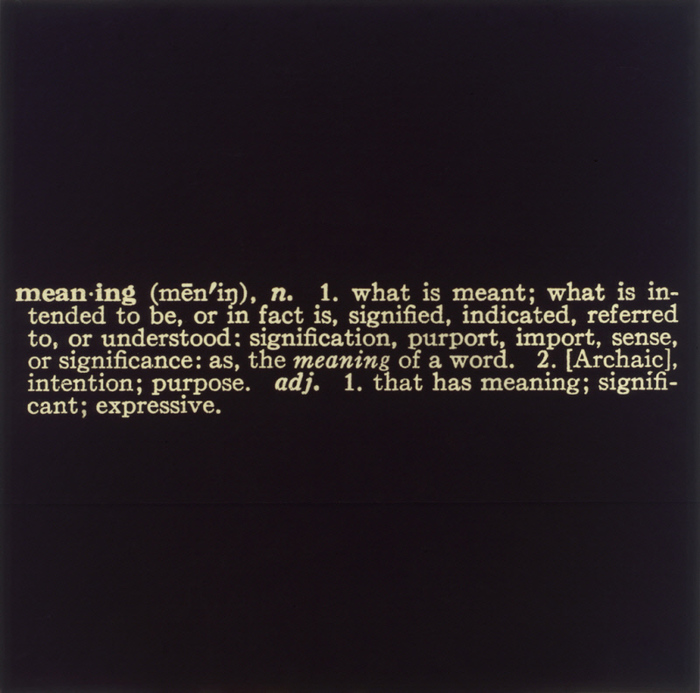
Роберт Сторр: Я не уверен, что это справедливая оценка. Я не собираюсь защищать все, что говорит Дейв, но я не думаю, что отсутствие утопического видения свидетельствует об отсутствии социальных взглядов. Напротив, я считаю, что среди прочего Дейв на самом деле развенчал или попытался развенчать ряд мифов об авангарде и его отношениях со зрителями и читателями и вернул им ту власть, которую, как он считал, присвоили себе университет и музей. Поскольку я работаю в музее, я хорошо понимаю, как это происходит — как институциональные практики и регламент могут подрывать независимость публики. И хотя я не полноправный член академического сообщества, я сформировался внутри него и хорошо представляю себе, как можно злоупотребить подобной властью.
Джордж Бейкер: Получается, что Дейв Хики — это Робин Гуд от художественной критики.
Роберт Сторр: Я не утверждаю, что он Робин Гуд, я всего лишь говорю, что с ним стоит считаться, поскольку он нащупал нерв существующих властных отношений. Представление, что утопическое видение должно оставаться существенной компонентой серьезной критики, как минимум спорно.
Хелен Молсуорт: Я думаю, одна из причин того, почему Дейв Хики сейчас так популярен, состоит в том, что он открыто говорит о рынке и о связи между рынком, вкусом, художественным миром и музеем. Однако я не считаю, что он действительно работает как художественный критик как таковой. Это заставляет меня задать более прозаичный вопрос о том, что мы понимаем под критикой, тем более что я не согласна с Джеймсом и Бенджамином относительно ее «смерти». Я убеждена в существовании художников, для которых критика все еще весьма полезна и которые заинтересованы в диалоге с ней. Мое возражение строится на двух аргументах: во-первых, я бы не очень торопилась с выводом, что художникам вроде Андреа не нужна критика из-за того, что они включают критический анализ в свою практику. Я предпочитаю думать, что дискурсивная позиция «внешнего наблюдателя» всегда сильнее. Во-вторых, я думаю, что сегодня мы не вполне считываем реакцию некоторых художников на критику или не распознаем ее в этом качестве. Взять, к примеру, художницу Рэйчел Харрисон. В своем творчестве она как раз проявляет глубокий интерес к текстам, которые созданы многими из присутствующих за этим столом, — к текстам о минимализме, феноменологии и роли фотографии в культуре спектакля. Но, как мне кажется, те люди, с которыми она пытается вступить в диалог, могут не осознавать этого. В целом я лишь хочу сказать, что не стала бы провозглашать смерть критики до того, как мы действительно решим, чем она является.
Дэвид Джослит: Я согласен, нам необходимо точнее определить, что мы понимаем под критикой. Возвращаясь к сказанному ранее, я бы подчеркнул, что критика — это именно суждение, а не просто интерпретация. И здесь возникает вопрос: что конкретно мы приобретаем благодаря этим суждениям?
Джордж Бейкер: То есть вы разделяете критику и историю искусства? На основании сказанного вами интерпретацию можно отнести к истории искусства, а суждение — к задачам критики.
Дэвид Джослит: Это скользкий путь. Я думаю, что одна из важнейших на сегодняшний день тем критики берет начало в истории искусства, но выходит за ее пределы. Она связана с визуальной культурой и сосредоточена на проблеме границ: это суждение о том, что представляет собой предмет эстетической интерпретации.
Джордж Бейкер: Этот вопрос возвращает нас к проблеме специализации критика. Художественный критик не обязательно привлекает всю пространную и длинную историю визуальной культуры. Здесь мы снова выходим к описанной Бенджамином проблеме: с одной стороны, происходит уничтожение определенных компетенций, с другой — открываются новые пространства, внутри которых может действовать критика.




