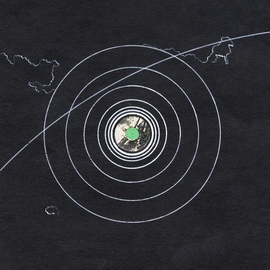Дори Эштон. Нью-Йоркская школа и культура ее времени
В предисловии к книге «Нью-Йоркская школа и культура ее времени» ее автор, американский искусствовед и художественный критик Дори Эштон, пишет, что она надеялась «хотя бы отчасти ответить на простой вопрос… “Почему живописи в американской культуре понадобилось столько времени, чтобы заявить о себе в полный голос?”». Итогом ее размышлений стала «книга не об искусстве и не о конкретных художниках, а о художниках в американском обществе», в которой Эштон прослеживает формирование новой системы американского искусства, сложившейся в 1930–1950-е годы вокруг художников, которых принято относить к абстрактному экспрессионизму, ставшему одним из самых влиятельных направлений в искусстве XX века. С любезного разрешения издателей — Музея современного искусства «Гараж» и «Ад Маргинем Пресс» — мы публикуем главу, посвященную рынку искусства тех лет.
 Джексон Поллок. Один (№ 31). 1950. Холст, масло, эмаль. Музей современного искусства, Нью-Йорк. © 2017 Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York
Джексон Поллок. Один (№ 31). 1950. Холст, масло, эмаль. Музей современного искусства, Нью-Йорк. © 2017 Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York
Художники и арт-дилеры
В 1955 году Гринберг, оглядываясь назад, решил, что 1947–1948 годы были поворотным пунктом. По его словам, в 1947 году произошел качественный скачок, к которому «в 1948-м “присоединились” такие художники, как Филип Гастон и Брэдли Уокер Томлин; два года спустя их примеру последовал Франц Клайн; Ротко оставил свою “сюрреалистическую” манеру, у де Кунинга состоялась первая персональная выставка, а Горки умер». Его довольно высокомерное упоминание «присоединившихся» тем не менее показывает, что давняя надежда на образование плеяды, которая могла бы называться Нью-Йоркской школой, начала обретать очертания и выглядеть осуществимой. По всей стране произошел всплеск энтузиазма художников, которые, получив весть о реальном движении, устремили взоры на Восток. Посетители кафе «Уолдорф» не умолкали, число их увеличивалось день ото дня. В отдаленных районах Нью-Йорка открывались все новые галереи, музеи начали замечать художников. Прежние мифы, на которые опиралась горстка передовых художников, стали понемногу рассеиваться, хотя решающий момент настал лишь несколько лет спустя. Гринберг коснулся этих мифов на страницах журнала «Хоризон» за октябрь 1947 года: «Моральное состояние этого района нью-йоркской богемы, населенного с трудом перебивающимися молодыми художниками, в последние двадцать лет ухудшалось, но интеллектуальный уровень рос, и до сих пор именно там, в Даунтауне, ниже 34-й улицы, решается судьба американского искусства — решается молодыми людьми, редко старше сорока лет, которые живут в квартирах без горячей воды и едва сводят концы с концами. Теперь все они пишут в абстрактной манере, изредка выставляются на 57-й улице, и слава их не идет дальше небольшого кружка фанатиков, помешанных на искусстве неудачников, которые живут в США так изолированно, как если бы жили в Европе времен палеолита».
Спустя три месяца в «Партизан Ревью» он вновь упоминал студии на пятом этаже без горячей воды, бедность и «невроз отчуждения».

По мнению Гринберга, миф о парижской богеме XIX века был лишь предвкушением, тогда как в Нью-Йорке он воплотился полностью: отсюда следовало, что критик верит в миф как в созидательную силу. Приняв в 1945 году концепцию «искусства для искусства», Гринберг счел ее очень уместной, а в прискорбном «отчуждении» — этот термин встречался не только в его колонке в «Партизан Ревью», но и почти в каждом критическом тексте, опубликованном в 1948 году, — усмотрел не более чем плату за неистовый индивидуализм, им порождаемый. Как и многих интеллектуалов, его притягивала прометеевская твердость убеждений, проявленная художниками Даунтауна в трудные времена. Гринберг ждал, что, достигнув духовного дна, эта группа создаст новое движение, даже когда констатировал гибельность их положения — например, горько вопрошая в 1947 году: «Что могут сделать пятьдесят человек против ста сорока миллионов?»
Дальновидность Гринберга подтвердилась, когда он понял, что реальными плодами духовной неудовлетворенности его peintres maudits (фр. — прóклятые художники) стали огромные дерзкие полотна, заставившие его говорить о «кризисе станковой живописи»[1]. Эту мысль он, вполне возможно, подхватил у Поллока, который в начале 1947 года, составляя заявку на грант в фонд Гуггенхайма, писал, что планирует создать «большую передвижную картину, занимающую промежуточное положение между станковой живописью и стенной росписью», оправдывая замысел так: «Я полагаю, что станковая живопись — отмирающая форма, и современное чувствование более тяготеет к стенной росписи или фреске». Гринберг впоследствии снова и снова поднимал этот вопрос, каждый раз выдвигая предположение, что станковая живопись будет заменена новыми, «полифоническими» формами, намеченными живописью Поллока. Любопытно, что его статья в «Партизан Ревью» включала ряд репродукций работ де Кунинга, первая персональная выставка которого стала значительным событием того года и который упорно отстаивал станковую живопись.

Миф де Кунинга установился прочно. По словам Хесса, он еще с тридцатых годов считался «живописцем для живописцев». Как многократно повторял Денби, де Кунинг был совершенно неподкупным, жил абсолютно честно, предпочитал неудобства подчинению чужой идее по поводу того, какой должна быть жизнь художника. Он всегда оставался «чердачной крысой» и вместе с тем всегда был гражданином мира. Его космополитизм подтверждался тесным общением с такими людьми, как исключительно чуткий интеллектуал Денби, как Грэм, Горки, Буркхардт, Кейдж, а также со многими другими поэтами, писателями и знатоками искусства, которые не были близко связаны с его повседневной даунтаунской жизнью. Да он и сам в высшей степени компетентно рассуждал о живописи и проявлял глубокий интерес к истории искусства и культуры. Наконец, де Кунингу нравилась сложность огромного города, энергию и красоту которого он осознанно пытался отразить в своей живописи.
В сороковые годы те, кто следил за художественной жизнью Нью-Йорка, а также те, кто днем писал картины, а вечерами беседовал с коллегами, часто слышали рассказы о смелом противостоянии де Кунинга льстивым речам дилеров и случайных покровителей. Было хорошо известно, что он и Горки предпочли бедность соглашательству. Медленная работа де Кунинга, его готовность по много раз начинать картину с начала, а при необходимости и после этого оставлять ее незаконченной, сложились в легенду уже в 1943 году, к которому относятся воспоминания Денби о том, как последовательно де Кунинг избегал легкой красоты и, невзирая на возможность выставиться в хорошей, пусть и окраинной, галерее по предъявлении готовых картин, ждал и работал. Лишь Чарльзу Игану удалось устроить первую персональную выставку де Кунинга. Иган был хорошо знаком с даунтаунской богемой, и его по сей день вспоминают добрым словом многие художники, которых он когда-то выставлял. Ум, искренний интерес к живописи и достаточный запас чувства юмора позволяли ему входить на правах своего и во влиятельный круг кафе «Уолдорф», и в отдельные мастерские. За оригинальные вкусы и богемный темперамент художники ценили Игана, и, даже когда их раздражали его опоздания на галерейные встречи, не относились к нему с пренебрежением, как ко многим другим арт-дилерам, появившимся в конце сороковых — начале пятидесятых.

Иган имел прекрасную подготовку. Он начал в 1935 году как молодой агент в галерее Уонамейкера, где сразу же стал выставлять современных художников, в числе которых были Джон Слоун и Стюарт Дэвис. Затем Иган работал в галерее Феррарджила, тоже имевшей дело с современным американским искусством, и под началом умудренного опытом И.Б. Ноймана. Открыв в 1945 году собственную галерею, он первым делом занялся продажей работ более ранних американских художников (Стеллы и Валковица), но следил и за тем, что происходило в среде молодых художников-авангардистов. Очевидно, де Кунинг был впечатлен независимым духом Игана, порой наносившим ущерб рыночным аспектам его профессии. Над первой выставкой де Кунинга серьезно потрудились они оба, и работа увенчалась поразительным успехом. Все, сколько-нибудь знакомые с легендой о де Кунинге, устремились к скромной галерее; иногда ее двери оказывались закрытыми, так как Иган, пренебрегая коммерческими законами, не придерживался регулярного расписания. Тем не менее пресса работала в полную силу, музеи присылали своих представителей, и выставка имела впечатляющий успех в мире искусства.
Симпатии художников снискали и некоторые другие арт-дилеры, приложившие усилия к созданию значимой школы современной американской живописи. Сэм Куц, веселый рослый южанин, выказал свой интерес к этому предмету тем, что в 1943 год опубликовал книгу «Новые рубежи в американской живописи», а еще раньше добился проведения большой выставки в холле универмага Macy’s, после чего увел Базиотиса и Мазеруэлла из галереи Пегги Гуггенхайм. Когда в 1945 году Куц открыл собственную галерею, в ней выставлялись также Байрон Браун, Карл Холти и Адольф Готтлиб. Разумным шагом с его стороны было привлечение к написанию каталожных статей литераторов, благодаря чему выставки сопровождались хорошо написанными критическими эссе. Куц оказался достаточно практичным, чтобы набить запасники работами Пикассо с тем, чтобы галерея могла функционировать, пока не появится рынок для его молодых бунтарей. В своих воспоминаниях, опубликованных в серии «Архив американского искусства»[2], он пишет, что Альфреду Барру нравились Мазеруэлл, Готтлиб и Базиотис — факт, который был очень важен для любого дилера того времени, который пытался начать работать с американским ассортиментом. Также Куц упоминает, как мало продаж происходило в тот период и какими низкими были цены: например, картина де Кунинга с «Черно-белой выставки»1949 года (единственная проданная) ушла за 700 долларов.

Еще одним влиятельным дилером, нравившимся художникам, была Бетти Парсонс. Ее преимуществом было происхождение из высшего общества, знание его нравов и снобистских прихотей, а также знакомство — через родственные связи — со многими попечителями Музея современного искусства. Ко всему прочему в юном возрасте Парсонс «взбунтовалась» и уехала в Париж обучаться искусству. В Нью-Йорке она начала устраивать выставки в середине тридцатых. Знакомство с такими влиятельными фигурами, как Фрэнк Крауниншильд из «Вэнити Фэйр» (близкий друг большинства попечителей Музея современного искусства), несомненно, помогло ей без труда войти в круг арт-дилеров. Одним из ее первых заметных шагов стало вхождение в число партнеров книжного магазина «Уэйкфилд», где она оказывала гостеприимство любому искусству, привлекавшему ее внимание. Когда Мортимер Брандт купил этот магазин, он назначил Парсонс заведующей современной секцией: именно там она начала выставлять Теодороса Стамоса, Адольфа Готтлиба (статью в каталог его выставки написал Барнетт Ньюман), Марка Ротко, Гедду Стерн и Эда Рейнхардта. А в сентябре 1946 года открылась собственная галерея Бетти Парсонс.
Пегги Гуггенхайм рассказывает о том, как, закрывая свою коммерческую галерею, она пыталась найти арт-дилера, который хотел бы приобрести работы Поллока. Единственным смелым человеком оказалась Бетти Парсонс, проявлявшая большой интерес также к Ротко и Стиллу. Экспозицию ее первой выставки готовил Барнетт Ньюман, чьи суждения и юмор она высоко ценила. Он и в дальнейшем играл значительную роль в решениях, которые принимались в галерее; какое-то время Ньюман, Ротко и Стилл создавали там самоезаметное трио, тогда как Поллок отошел в сторону. Благодаря своему уму и исключительному чувству справедливости Парсонс умела справляться с напряжением, исходившим от этих мужчин. И Стилл, и Ротко уже начали в этот период отгораживаться от наступавшего общества потребления путем провокативных отказов и демонстрации неподкупности. Для дилера, который пытался найти покупателей на их картины, такое поведение могло быть утомительным, но Парсонс с ее собственным опытом художника не только была терпелива, но и поддерживала их. В попытках контролировать судьбу своих картин Стилл, Ротко и Ньюман, скорее всего, консультировались друг с другом. Стилл в письмах к Парсонс постоянно возражал против групповых выставок и оценки искусства вообще; он, как и Ротко, отказался от выставки в Музее Уитни, причем привел практически те же доводы. Эти признаки расхождения с истеблишментом становились все заметнее по мере того, как росла слава художников, а с нею и заботы дилеров.

Так или иначе, новые арт-дилеры успешно работали с музеями и с небольшим кругом благожелательной прессы, и их взаимная заинтересованность друг в друге неуклонно увеличивалась. Так, когда журнал «Лайф» с несколько преувеличенным пафосом представил в 1948 году свой первый круглый стол по современному искусству[3] («на котором пятнадцать известных критиков и знатоков предприняли попытку объяснить необычное искусство сегодняшнего дня»), в числе картин «молодых американских экстремистов», воспроизведенных и подвергнутых обсуждению экспертами, фигурировали «Живопись» де Кунинга (1948), только что приобретенная у Игана Музеем современного искусства в Нью-Йорке; «Карлик» Базиотиса, тепло поддержанный сотрудником того же музея Джеймсом Троллом Соби (в пику Гринбергу, который заявил, что это плохое искусство); «Бдение» Готтлиба, выставленное за год до этого в галерее Куца; «Звуки в камне» Стамоса; и, наконец, «Собор» Поллока, который был выставлен в том сезоне у Бетти Парсонс и получил вполне предсказуемые похвалы Гринберга и Суини. И подбор картин, и состав экспертов показывает, что только что созданные галереи передового американского искусства вели к распространению мысли о важности этого явления. Тот факт, что «Лайф» сумел собрать так много известных специалистов — в том числе Мейера Шапиро, Олдоса Хаксли и Жоржа Дютюи — для обсуждения довольно-таки абсурдно поставленного вопроса, сам по себе свидетельствовал о том, что послевоенная Америка нуждалась в опыте современного искусства. А вопрос, поставленный перед этими экспертами, звучал так: «Современное искусство в целом — это хорошо или плохо? То есть, следует ли ответственным людям поддерживать его, или же они должны пренебречь им как незначительной и переходной стадией развития культуры?» Готовность рассматривать этот необъятный и вместе с тем провокационный вопрос удостоверила миссионерские устремления собравшихся.
Впрочем, энтузиазм экспертов «Лайф» предсказуемо столкнулся с нараставшей враждебностью большинства популярных изданий, и в мае 1949 года Холгер Кэхилл высказал на страницах «Мэгэзин оф Арт» тревогу по поводу нападок на «непонятность» искусства — в частности искусства художников, вышедших из тридцатых годов. Он называл Ротко, Поллока, Мазеруэлла, Базиотиса, Каваллона, Стилла, Готтлиба, Хэра, Смита, Горки, де Кунинга и Томлина значительными художниками, которые остаются недооценены, и сожалел об упадочном состоянии критики. Этот перечень имен свидетельствует об эволюции, проделанной самим Кэхиллом со времен тридцатых годов, когда он все еще надеялся, что американское искусство найдет контакт с широкой публикой. Несомненно, никто в его положении не мог больше питать таких надежд. Расхождения не уменьшились, а только усилились.