Рогер Бюргель: «Не надо думать о кураторах как о маньяках»
Рогер Бюргель — немецкий куратор, чьей самой известной выставкой является documenta 12 в Касселе (2007), которую он подготовил совместно со своим многолетним соавтором Рут Ноак. В 2012 году Бюргель был назначен куратором Пусанской биеннале в Южной Корее, где также при участии Ноак он показал проект «Сад обучения» (Garden of Learning); ряд произведений для этой выставки был создан художниками в результате обсуждения своей работы с группами обычных зрителей, состоявшими из жителей города и страны. В Москве Бюргеля знают как сокуратора выставки «Субъект и власть (лирический голос)», состоявшейся в 2001 году в ЦДХ и представившей работы международной группы художников нонспектакулярного направления, в том числе Анатолия Осмоловского и Кирилла Преображенского — через несколько лет они получат от него приглашение в Кассель. Марина Анциперова встретилась с Рогером Бюргелем во время его приезда в Москву, где он прочитал лекцию «О мировых возможностях и вопросах кураторства» в рамках 1-й сессии проекта Виктора Мизиано «Удел человеческий», проходившей в Государственном центре современного искусства, и поговорила с Бюргелем о дружбе с художниками, кураторской смелости и необходимых профессиональных навыках, а также о его несогласии с некоторыми суждениями Ирины Антоновой.
 Ай Вэйвэй. Шаблон. 2007. Вид инсталляции, поваленной после урагана, на выставке documenta 12. Кассель. 2007. Фото: Давид Гомес Фонтанильс
Ай Вэйвэй. Шаблон. 2007. Вид инсталляции, поваленной после урагана, на выставке documenta 12. Кассель. 2007. Фото: Давид Гомес Фонтанильс
Марина Анциперова: Вы приехали сюда в рамках проекта Виктора Мизиано «Удел человеческий», его основная тема — возврат художников к метафизике и вечным ценностям, личным сюжетам. Этот круг вопросов как-то соотносится с вашими интересами? Судя по вашему портфолио, они у вас иные: их можно определить как активизм, образование, регионализм и немного политики.
Рогер Бюргель: Честно говоря, я не знаю достаточно об идеях Виктора Мизиано о «границах человеческого». Но я соглашусь с тем, что он сказал в предисловии к моему выступлению: ему интересно, как можно описать этику выставок в отрыве от эстетического опыта. Очевидно, существует определенный вакуум в современных дискуссиях на тему общественных состояний и жизни, но я не думаю, что, создавая такие дискуссии, мы приходим к понятию домодернистских Средних веков — скорее, нам просто нужны новые ресурсы, чтобы обращаться к этим вопросам: как мы теперь хотим жить вместе, например.

М.А.: В одном из интервью вы говорили, что искусство — медленный процесс, художники не должны быть оппортунистами, а кураторы не должны подносить публике стейк из искусства на подогретой тарелке. Как вы думаете, что представляет собой самый важный с точки зрения этики вопрос в кураторстве сейчас? И связаны ли сегодня главные этические проблемы в искусстве именно с рынком?
Р.Б.: Я думаю, важно создавать такие пространства, где возникали бы новые типы опыта, того опыта, который люди не могли бы так легко присвоить себе. Вопрос рынка все еще уместен, но рынок не обязательно является единственным источником этой проблемы: существует еще и консюмеристская установка со стороны аудитории, которая, на мой взгляд, поддерживается большими институциями. Они сильно упрощают положение дел. Это они виновники того, что люди могут вообразить, будто покупают что-то, что понимают, что легко могут объяснить. Институции боятся сильного сопротивления со стороны публики и даже не пытаются работать иначе, теряют образовательную грань художественного опыта. На мой взгляд, это главная проблема западных институций. Они хотят оставаться слишком популистскими.
М.А.: А в чем тогда правильный баланс между патернализмом и популизмом?
Р.Б.: Дело не в патернализме, он не единственная альтернатива. Настоящая альтернатива — показать произведения в том состоянии, в котором они были созданы, то есть без экспликации: вы не можете объяснить все на свете. Это будет новый тип ситуации. Людям кажется, что с экспликацией они будут понимать искусство, в то время как они не понимают собственную жизнь. Это то противоречие, которое нужно разрешить, чтобы сделать искусство более значимым для людей. Только если вы преодолеваете это препятствие в искусстве, в его напряжении, вы можете развиваться и менять себя. Иначе вы можете пережить самое грустное, что только может случиться с вами, при этом вы останетесь сами собой.

М.А.: Вы сейчас намекаете на проект «Сад обучения», который вы сделали на Пусанской биеннале?
Р.Б.: «Сад обучения» был в некотором смысле моим безумием: я хотел увидеть, смогу ли работать в среде, которую совершенно не понимал, — в Южной Корее. Мог ли я даже мечтать о том, чтобы хоть как-то контролировать этот процесс? Я попытался устроить работу так, чтобы мы — принимающая сторона и я — взаимодействовали как единый живой организм, несмотря на существовавший огромный разрыв, вызванный культурными различиями. У меня была прекраснейшая ассистентка, но при этом я все время понимал, что она не переводит в точности то, что я говорил. Я не мог поймать ее за руку и указать на это, но я это чувствовал. И мне все время казалось, что она никогда не переводила мне полностью то, что говорили корейцы. Происходящее было похоже на танец.
М.А.: А чем будет отличаться поворот в образовании в кураторстве от обычной образовательной практики, которой кураторы занимаются последние 40–50 лет в музеях по всему миру? И какой способ заниматься этим на ваш взгляд был бы правильным?
Р.Б.: Все зависит от желания институций установить собственную экспертизу. Это может выглядеть как потеря власти, но, с другой стороны, она при этом обязательно приобретается. В этом случае публика будет полноправным участником происходящего: так случилось, когда я сказал корейцам, что они должны сами мне сказать, что хотели бы увидеть на выставке, что у меня совершенно нет идей. И они, конечно же, предложили собственное видение, а мне уже надо было соотнести себя с этим. Было необходимо выйти из привычного способа профессиональной работы куратора, но именно так, по-моему, достигается баланс. На мой взгляд, институция, которая берет на себя риски, всегда будет выглядеть интереснее, чем та, что не хочет рисковать.
М.А.: Вы так много говорите о власти и контроле… Традиционный кураторский подход связан как раз с этим?
Р.Б.: Да, но не сознательно. Не надо думать о кураторах как о маньяках, которые делают все только из желания получить власть. Они часто понимают свой путь в искусстве как создание определенной внутренней непротиворечивости: что должны все время создавать одно, а не другое. И это еще связано с тем, что все кураторы строят свою карьеру за счет выставок. Вот почему они не снисходят до того, чтобы немного рисковать, а вместо этого стремятся работать с одним и тем же набором художников и оставаться в одной категориальной парадигме — и так до бесконечности. Вы не найдете ни одного куратора, который вам скажет, что не знает, что делает, и получает от этого огромное удовольствие. Но я думаю, это очень хороший рецепт для интересной выставки.
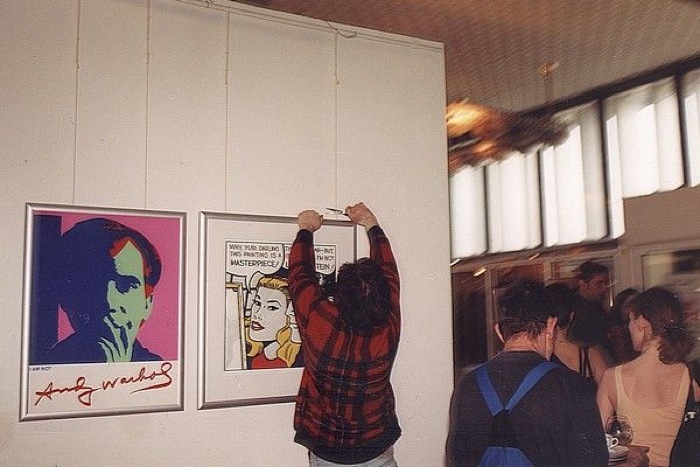
М.А.: А что было бы хорошим рецептом для работы с музеем? В 2004-м вы были приглашенным куратором Музея современного искусства Барселоны (MACBA). Как вы сегодня представляете роль куратора в музее? Еще Гертруда Стайн — и с ней соглашается Ханс Ульрих Обрист — говорила, что музей не может быть одновременно и музеем, и современным. Кураторы то приходят в музей, то уходят, то используют его для экспериментов.
Р.Б.: Имеет смысл работать с институциями — прежде всего потому, что институциям надо меняться. Но это также значит, что куратору нужно иметь очень много социальных навыков, поскольку многие вещи можно изменить только на межличностном уровне, а для этого необходимо заработать определенное доверие. Это даже не обязательно связано с вопросами искусства. Начиная работать в музее, куратор в первую очередь должен инициировать дискуссию о том, какие цели должны быть у институции, — тогда все, что произойдет дальше, будет иметь другой масштаб и соотноситься не с его отдельной фигурой, а со всем музеем. Всем нужно стать более осознанными в том, что они действительно хотят делать, — этого сильно не хватает.
М.А.: Несколько лет вы проработали помощником Германа Нитча, фигуры харизматичной и довольно специфической, с его религиозными и эзотерическими практиками, — достаточно вспомнить его «Театр оргий и мистерий». Как это повлияло на вас?
Р.Б.: Это были прекрасные три года! Я родился и вырос в Берлине, а австрийская культура и искусство были очень далеки от меня. Я вижу намного больше смысла в том, чтобы работать с художником лично и назначать ежедневные встречи в барах и ресторанах, а не быть выпускником какой-то школы или частью системы. Разговоры, которые действительно имеют значение, часто случаются во время совместной поездки. Я получил очень много для себя от подобного близкого общения с художниками, да и в целом мое художественное образование всегда было очень личным. Вот почему я стараюсь быть милым со своими студентами тоже.
М.А.: Помните ли вы какие-то отдельные разговоры, которые, может быть, не изменили вашу жизнь, но стали важным поворотом в вашей работе? Или это был постепенный процесс?
Р.Б.: Да, это медленный процесс, такое плавное изменение. Когда ты молод, у тебя нет чувства направления, хотя ты многое и не принимаешь. А в какой-то момент становится понятно, что больше нет логики в том, что ты раньше осуждал. Личные отношения важны, потому что в них есть доверие, не нужно защищать ни себя, ни свою позицию, можно легко увидеть, что сработает, а что — нет. Взаимодействие с художником меняет тебя, ты начинаешь соотносить свои идеи не только с самим собой, но и с целой индустрией, с художественным миром.
М.А.: Как строятся ваши отношения с художниками? Многие кураторы сегодня хотят сделать свою работу максимально незаметной, дистанцироваться от прямого высказывания, так, чтобы ее могли увидеть только коллеги. Какой подход вам ближе — куратор как художник или кураторство совместно с художником? И за каким из них будущее?
Р.Б.: Дело опять же в личных отношениях. Иногда нужно быть мягким, иногда — жестким. И нужно быть хорошим в обоих качествах. Если ты будешь чересчур мягок, у выставки не будет формы — на важных выставках вроде «Документы» художники боятся стать невидимками, поэтому они пытаются создать собственную «обувную коробку», свое пространство, которое будут контролировать. Но если дать каждому такую коробку, то все будет выглядеть как череда обувных коробок. Более того, многие выставки уже так выглядят. Это катастрофа. Но как только вы начинаете вмешиваться в работу, приходится бороться, а для этого следует безоговорочно верить в собственные идеи, которые иногда тоже бывают неверны. Иногда я думаю, что нужно хорошо знать человеческую психологию, чтобы выжить в этой профессии.

М.А.: На 12-й «Документе» вы задавались вопросом, что такое современная выставка и что такое современная публика. Как вы отвечаете на этот вопрос сейчас?
Р.Б.: Больше нет единой публики, есть много фрагментированных аудиторий. Баланс между ними сильно изменился за последние десять лет. Я не знаю, как дела с этим обстоят в России, но в Европе совершенно очевидно, что происходит размытие национальных государств. Больше нет яростных требований культурной гомогенности, и это открывает потенциально много возможностей для выставок. Немецкие арабы могут объяснять каллиграфию немецким африканцам — и так далее. Но для этого тогда нужно создавать новые форматы, и в этом смысле все изменилось. Современные выставки обращаются к чему-то, что волнует, а иногда и вовсе раздражает людей, но это не обязательно означает искусство, которое сделано сегодня и сейчас: в правильном контексте и некоторые старые работы могут оказаться намного современнее, чем те, что художники выносят из своих студий сегодня.
М.А.: На «Документе» вы показывали не только работы современников, но даже персидский ковер, вытканный в 1800 году, утверждая, что у современного искусства более глубокие корни, чем мы считаем. Мне кажется, в подобном жесте есть оттенок мистификации, и этим вы в некотором смысле создаете новую реальность.
Р.Б.: Художники обычно очень образованы в том, что касается истории искусства и тех произведений, которые повлияли на то, что они делают. Про аудиторию, к сожалению, этого сказать нельзя. Так что мое решение имело смысл: я хотел показать те произведения, к которым обращаются художники, имплицитно или эксплицитно. Когда у вас есть красный шнур, сплетенный Шилой Гаудой, современной индийской художницей, вы можете показывать его сам по себе. Но, конечно же, ее работы испытывают влияние истории, у них есть корни, о которых автор полностью отдает себе отчет. И когда вы знаете контекст, историю художественной традиции, в которой возникли ее произведения, то понимаете намного лучше и позицию самой Шилы — и это делает ее работы богаче.

М.А.: Ирина Антонова, многолетний директор, а ныне президент ГМИИ им. А.С. Пушкина, не понимает, как можно любить Бойса. Она неоднократно говорила, что современное искусство и то, что было до него, — это настолько разные вещи, что для современного искусства надо придумать какой-то новый термин, в котором не будет слова «искусство». Что бы вы ей ответили?
Р.Б.: Конечно, между первым и вторым есть сильное различие, но различия будут и между барочной картиной и картиной эпохи Ренессанса. Об этом можно говорить бесконечно, есть множество различий, которые можно находить и обсуждать. А то, что она не хочет называть современное искусство искусством, — ее личное дело.
М.А.: Вы дружите с Ай Вэйвэем. Когда он участвовал в вашей «Документе», он был совсем не так известен, а сегодня Ай Вэйвэй практически везде. Вам нравится, в каком направлении он движется сейчас?
Р.Б.: Да, мы друзья. Когда вы становитесь очень известным художником, это создает слишком много возможностей. Кажется, что все институции просто мечтают заполучить ваши работы — и зачастую это действительно так. Я видел у него и в самом деле плохие выставки, и наспех сделанные произведения, но я не думаю, что он продался, он по-прежнему создает важные, лиричные и сильные вещи. Такие, как те самые работы после землетрясения. Просто ему нужно найти верный баланс между своим талантом, производством и этими новыми условиями.

М.А.: К участию в 12-й «Документе» вы пригласили Дмитрия Гутова, Анатолия Осмоловского (признан иноагентом министерством юстиции РФ), Андрея Монастырского и Кирилла Преображенского. Вы следите за тем, что происходит в русском искусстве сейчас?
Р.Б.: Я бы не хотел делать обобщений — мне близки отдельные художники, я дружу с ними, и эти отношения имеют для меня значение, в них есть доверие и искренность. Но я не в той ситуации, которая позволяла бы мне судить о российской художественной сцене. Мне кажется, что Москва — один из самых интересных городов в том, что касается уровня и глубины дискуссий. И если вы хотите, чтобы ваши институции развивались дальше, нужно позвать управлять ими иностранцев: африканцев, французов, индусов… Иностранных кураторов должно быть так много, как только возможно, — это единственный способ существовать в современном мире.




