18.12.2013 45133
Кэлвин Томкинс. Жизнеописания художников. М. — V-A-C press. 2013
Жизнеописания десяти современных художников от критика журнала The New Yorker.
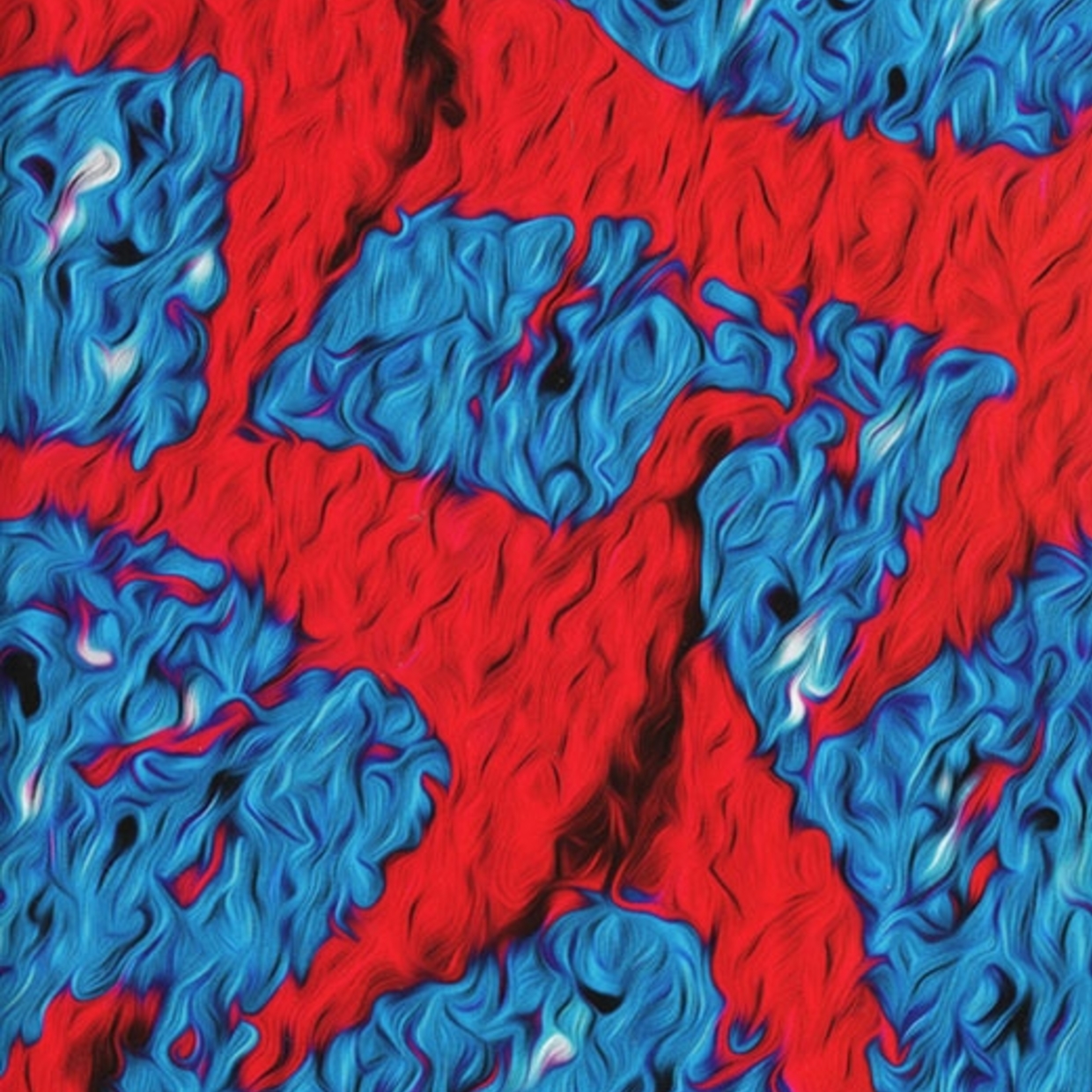
Вторая книга издательской программы фонда V—A-C («Виктория — искусство быть современным») (напомним, что ее первой книгой стал сборник эссе куратора Франческо Бонами «Я тоже так могу. Почему современное искусство все-таки искусство») — сборник из десяти текстов художественного критика Кэлвина Томкинса, опубликованных в разные годы в журнале The New Yorker. Ее название, разумеется, является оммажем знаменитой книге Джорджо Вазари «Жизнеописания прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов». Среди тех, о ком пишет Томкинс — Деймиан Херст, Синди Шерман, Джулиан Шнабель, Ричард Серра, Джеймс Таррел, Мэтью Барни, Маурицио Каттелан, Джаспер Джонс, Джефф Кунс и Джон Карин. Основой каждого рассказа являются впечатления от встреч автора с его героями, дополненные фрагментами бесед, историческими фактами и историями о том, как создавалась та или иная работа — тем самым внося человеческое измерение в творческий процесс. С любезного разрешения фонда V—A-C («Виктория — искусство быть современным») мы публикуем полностью главу, посвященную крупнейшему скульптору XX века — Ричарду Серре.
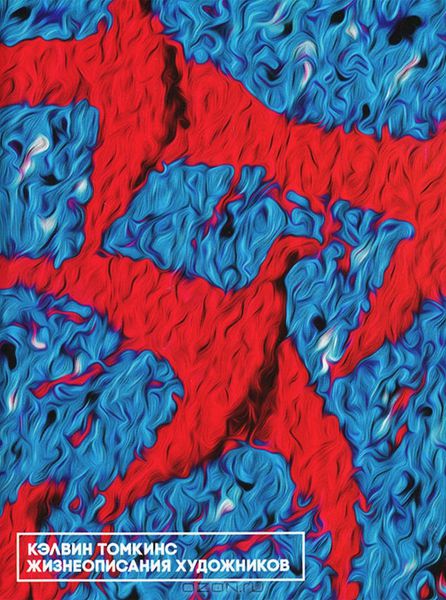
Обложка книги Кэлвина Томкинса «Жизнеописания художников»
В долгой и богатой конфликтами карьере Ричарда Серры не было события, равного по очищающей силе открытию его выставки в галерее Гагосяна осенью 2001 года. Открытие отложили из-за ужасных событий 11 сентября, и после катастрофы было непонятно, сколько придет народу. Пришло, как оказалось, более трех тысяч человек, и, по словам директора галереи Илана Уингейта, «всех овеяло чем-то целебным».
Выставочное пространство на Западной Двадцать четвертой улице в Нью-Йорке заполнили шесть монументальных скульптур. Масштаб и амбициозность новых работ Серры сюрпризом не стали: его скульптуры мощно воздействовали на зрителей с конца шестидесятых, когда он показал свои ранние подпертые свинцовые композиции в музеях Гуггенхайма и Уитни. Меня и многих других поразило другое: то, как далеко шестидесятидвухлетний Серра продвинулся после своих новаторских достижений, продемонстрированных двумя годами ранее в той же галерее. Теперь, похоже, он опять вывел искусство скульптуры на новые рубежи, ставя себе чрезвычайно рискованные задачи и успешно с ними справляясь, и в этом было что-то глубоко волнующее и поистине жизнеутверждающее.
Все шесть скульптур на выставке у Гагосяна были огромны: наклонные стены из промышленной стали двухдюймовой толщины; две сорокатонные прямоугольные объемные фигуры, занявшие два зала; странный, великолепный по выверенности исполнения монолит, похожий на огромный, опасно накренившийся корабль. И были там две «перекошенные спирали», в которые можно было войти, из длинных стальных листов высотой в тринадцать футов. Эти спирали, впервые выставленные летом на Венецианской биеннале, создают у зрителя особое ощущение самого себя в пространстве — ощущение, которое и дезориентирует, и бодрит. Из-за того, что стены нигде не вертикальны (они во всех точках клонятся либо внутрь, либо наружу), у находящегося внутри попеременно возникают чувства сдавленности и освобождения. Тяжесть кортеновской стали по обе стороны делает прогулку довольно-таки пугающей, но, когда ты наконец вступаешь в центральную широкую часть, внезапно испытываешь эйфорию: пространство устремляется от тебя во все стороны, и вся колоссальная форма точно всплывает, делается невесомой. Серра и раньше говорил, что его объект как скульптора — переживания зрителя, проходящего сквозь скульптуру или обходящего ее, что он не создает статичные вещи, а формирует пространство. Но никогда прежде его скульптуры так прямо, так недвусмысленно не затевали игру со зрительскими эмоциями. Люди бродили по спиральным коридорам на выставке у Гагосяна с зачарованным видом. Трогали стены, чья .патина. ржавчины насыщенного красно-коричневого цвета притягивала ладонь. Иные усаживались внутри и проводили там время; другие на протяжении трех месяцев, что работала выставка, приходили снова и снова. Одна молодая пара получила разрешение пожениться внутри «Беллами» — спирали, которую Серра назвал в честь покойного Ричарда Беллами, своего близкого друга и дилера на раннем этапе карьеры. (Другую он назвал «Силвестер» в память британского историка искусства Дэвида Силвестера, умершего за несколько месяцев до открытия выставки.) Впервые за все время знакомства с работами Серры они вызвали у меня сильнейшую радость, настоящий восторг.
Давно привыкший к отрицательной и даже враждебной реакции на свои вещи, Серра с видимым безразличием отнесся к похвалам, которых его на сей раз удостоили практически все. «Какие чувства моя работа ни вызывает, я их людям не диктую, — сказал он мне, — так что не знаю, как это объяснить». Внимание его, так или иначе, было сосредоточено прежде всего на новых заказах и предложениях — их было беспрецедентно много, и работа над ними находилась на разных стадиях. В их числе — вьющаяся серпантином, встроенная в пейзаж стена из стальных пластин длиной в восемьсот шестьдесят пять футов для частного клиента в Новой Зеландии — самая протяженная непрерывная скульптура из всех, что он когда-либо задумывал. Были крупные проекты для аэропорта в Торонто, для художественного музея Кимбелла в Форт-Уэрте, для Калифорнийского технологического института, для Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, для Массачусетского технологического института, для государственных и частных заказчиков в Германии, Италии, Англии, Бельгии и Катаре. При всей своей занятости Серра согласился исполнить главную роль в «Кремастере 3» — последнем фильме из снискавшего большие похвалы цикла молодого художника Мэтью Барни, чьи работы ему очень нравятся. Он должен сыграть Мастера-Архитектора, которого — что символично! — убивает Подмастерье.
В начале декабря Серра и его жена Клара, родившаяся в Германии, отправились в свой дом на острове Кейп-Бретон, где они проводят примерно пять месяцев в году. Там Серра делает немалую часть подготовительной работы для своих скульптур и создает очень много рисунков, которые не связаны со скульптурами, но играют важную роль в его творчестве. Когда я в феврале, в первый день после его возвращения с острова, пришел к нему в его лофт в нью-йоркском районе Трайбека, он сразу повел меня на первый этаж в мастерскую посмотреть новые рисунки: двадцать семь крупномасштабных абстрактных вариаций черным масляным карандашом с рельефным импасто на круговой мотив, занимающий его уже несколько лет. Серра был сверхподвижен и устрашающе красноречив. Коренастый, мощный на вид человек с крупной головой, опушенной коротко подстриженными седыми волосами, с черными глазами, чей пристальный взгляд напоминает взгляд Пикассо, он был одет как обычно: джинсы, рабочие ботинки и спортивный свитер с капюшоном. Он быстро переходил от рисунка к рисунку и, отвечая на мой вопрос, объяснил, как кладет бумагу ручного изготовления лицевой стороной вниз на плотно уложенные масляные карандаши и затем ведет линию куском металла по изнаночной стороне, вдавливая бумагу в густой черный краситель. Типичный для Серры процесс, подумалось мне: физический, агрессивный, трудоемкий. Сами же рисунки между тем были сложны и отличались чувственной, почти сладострастной красотой.
Потом мы вернулись на шестой этаж, где Серра и его жена живут с тремя своими шаловливыми чесапикскими ретриверами. Гостиная — примерно сорок футов на тридцать; высокий потолок, два больших потолочных окна, стулья и столы в стиле «миссия», африканские деревянные скульптуры, старинные камбоджийские глиняные горшки на высокой полке, камин с поленницей вдоль одной из стен и, на противоположной стене, один очень большой рисунок Серры черным масляным карандашом. Мы заговорили о недавнем появлении Серры в телепрограмме Чарли Роуза, когда, по мнению некоторых зрителей, он уничижительно отозвался об архитекторе Фрэнке Гери. Серра не согласился, что его отзыв был уничижительным. Чарли Роуз (подобно Мэтью Барни) «пытался сделать из меня архитектора, — сказал он, — а из Фрэнка Гери — художника. Он спросил меня: „Если вы скульптор, что, по вашему мнению, вы должны делать лучше, чем архитектор?“ Я ему отвечаю, что, первым делом, рисовать надо лучше. Он спросил, считаю ли я, что рисую лучше, чем Гери, и я говорю: „Конечно, лучше. Еще бы“. И что я не так сказал?»
Чарли Роуз попал в одно из больных мест Серры. Гери не входит в число архитекторов, с которыми Серра в прошедшие годы вступал в публичные перепалки, — более того, они близкие друзья, долгое время, как выразился Гери, «говорившие друг с другом своими работами». Но новое здание музея Гуггенхайма в Бильбао, возведенное по проекту Гери, заслужило самые шумные похвалы среди всего, что построено в нашу эпоху, это здание вновь и вновь называют большим произведением искусства, а самого Гери — большим художником, и это-то Ричарда Серру и не устраивает. «Если проанализировать, что я сказал, — настаивал он, — то никакого публичного оскорбления я Фрэнку не нанес. Я сказал, что искусство бесполезно и художник это сознает, сказал, что смысл в искусстве носит символический, внутренний, поэтический характер — тут массу всего можно еще перечислить, — а архитектура дело иное, тут надо реализовать программу, удовлетворить заказчика, сделать все необходимое в утилитарном плане. Не надо путать одно с другим. Архитекторы у нас сейчас бегают повсюду и твердят: „Я художник, я художник“ — я не верю этому, вот и все. Я не считаю Фрэнка художником. Я не считаю Рема Колхаса художником. Конечно, есть некоторые языковые переклички между скульптурой и архитектурой, между живописью и архитектурой. Между всеми видами человеческой деятельности есть переклички. Но есть и различия, которые существуют веками. Архитектор более важная птица, чем скульптор, мы все это знаем, но уж либо одно, либо другое».
Я сказал ему, что недавно говорил об этом с Гери. Гери считает так: архитектор решает проблемы клиента, думает, как исполнить требования департамента строительства, и еще многое держит в голове, но «есть то, за счет чего обычное строительство перерастает в архитектуру, это, может быть, пятнадцать процентов усилий, и тут наши решения сходны». Гери добавил: «Я имею дело с контекстом, формой, поверхностью — со всем тем, с чем имеет дело Ричард». «Фрэнк сказал вам, где проходит пятнадцатипроцентная черта? — Серра повысил голос. — Так, понятно. Я строю функциональное здание для клиента, например, обувной магазин, но пятнадцать процентов магазина — тут уже будет искусство. Он хочет объявить искусство частью своего рабочего процесса? Ну уж нет. Обойдется, и мы тоже обойдемся!» Это можно было принять за враждебность, но тут проявилось другое: темперамент, страсть. «Я думаю, надо принимать Ричарда таким, каков он есть, — сказал мне Гери. — Он бывает злым, он ревнив, критичен, нетерпим, он перфекционист, он придирчивый, трудный человек. Но те, кто его любит, говорят: „Что поделаешь, это же Ричард“. Помню один случай, это было в 1978 году, вскоре после нашего знакомства, он приехал в Лос-Анджелес и остановился у Стэнли Гринстайна. Он оставил в кухне на разделочном столе один из своих блокнотов с рисунками, моя жена Берта просто так, без всякой задней мысли в него заглянула, и тут входит Ричард; он таким тоном ей сказал, что не надо было этого делать, что она расплакалась. Вот когда я понял, что с ним надо осторожно, он кусается. Когда он в таком состоянии, спорить с ним бесполезно».
При всем том Серра и Гери за прошедшие тридцать лет очень много времени провели вместе и очень многому друг у друга научились. Гери — «один из немногих архитекторов нашего века, которые привнесли в мир архитектуры методы работы и мыслительные процессы современного искусства», — сказал недавно Серра. Гери постоянно хвалил работы Серры и пытался добиться заказов на его скульптуры, предполагающих размещение скульптур в его зданиях или рядом с ними. Единственная настоящая ссора случилась у них в конце семидесятых, и произошла она из-за скульптуры Серры, которую Гери уговорил ему заказать Марсию Уайсман, коллекционера из Лос-Анджелеса, для сада при ее доме в Беверли-Хиллз. Когда стальную скульптуру опускали с помощью крана, Уайсман яростно заспорила с Серрой о том, как она должна быть ориентирована, а потом, полчаса спустя, она сообщила ему, что хочет по случаю ее установки устроить вечеринку и разбить о нее бутылку шампанского. Серра сказал, что скульптура не корабль и он этого не потерпит. Началась перепалка, Уайсман пригрозила убрать скульптуру, и Серра ушел, пылая гневом. Гери, который при всем этом присутство вал, вечером позвонил Серре и посоветовал ему послать ей дюжину роз и сказать, что хотел бы приехать и поговорить обо всем спокойно. «Два часа спустя, — рассказывает Гери, — мне приносят коробку с двумя дюжинами роз и запиской от Ричарда: „Засунь их себе в задницу“. И он два года после этого со мной не разговаривал».
«Какие еще розы?! — рявкнул Серра, когда я пересказал ему услышанное от Гери. — Я ему розы послал? Может, и послал, и объясню, почему. Потому что какого хрена Фрэнк Гери мне звонит и говорит, чтобы я задабривал Марсию, когда она только-только укокошила мою работу? Вникните наконец». Марсия Уайсман убрала таки скульптуру. После этого она дважды была продана, последний раз — галерее, за $1,2 миллиона.

Мэтью Барни. Ричард Серра в роли Хирама Аббифа («Кремастер 3»: Хирам Абифф). 2002. Цветная фотография. Courtesy: Gladstone Gallery, Нью-Йорк
Ладить с Серрой никогда не было легко. Отец пытался его муштровать, заставляя перемещать на заднем дворе большие кучи песка. «День поработаешь лопатой, вечером он приходит и говорит: „Так, ладно, а завтра ты мне весь этот песок во-он туда“», — вспоминает Серра. Его отец был испанец с Мальорки. Он иммигрировал в Америку, женился на еврейке из России, и они поселились в Сан-Франциско, где в 1939 году родился Ричард Серра. Во время Второй мировой его отец работал слесарем-трубопроводчиком на судоверфи, после войны — мастером на кондитерской фабрике. Серра с двумя братьями (один старше его, другой младше) вырос в доме на песчаных дюнах между зоопарком и рестораном Cliff House. В соседнем доме жила супружеская пара по фамилии ди Суверо; их сын Марк тоже стал всемирно известным скульптором. Близкими друзьями, однако, они с Ричардом не были, потому что Марк был ровесником Тони, старшего из братьев Серра, из длинной тени которого Ричард всеми силами старался выбраться. Блестящий ученик и даровитый спортсмен, Тони Серра впоследствии стал самым известным адвокатом-защитником Сан-Франциско (Джеймс Вудс сыграл его в фильме «Верящий в правду», основанном на одном из его дел). Серра думает, что потому заинтересовался в детстве рисованием, что в этой области старший брат не мог ничем похвастаться. И мать и отец поощряли его в этом увлечении, и он каждый вечер рисовал на бумаге для заворачивания мяса: самолеты, машины, бейсболистов, корабли, самого себя в зеркале. «Я всегда чувствовал, что могу и хочу этим заниматься, — сказал он мне, — но в колледже решил специализироваться в английском».
В 1957 году он поступил в Калифорнийский университет в Беркли, но на втором году обучения перешел в университет в Санта-Барбаре, потому что «умаялся играть в Беркли в футбол и захотел туда, где смогу специализироваться в английском и заниматься серфингом. Я был неплохим серфингистом». Каждое лето он работал на сталеобрабатывающем заводе. «Я начал в пятнадцать лет: обрабатывал подшипники на маленьком заводе, насчет возраста им соврал. Это было очень полезно. Может, поэтому я и занимаюсь сейчас тем, чем занимаюсь. Я уважаю рабочий класс. Если ты занимаешься искусством, ты не знаешь, к какому классу принадлежишь, но если ты трудишься на сталеобрабатывающем заводе, ты из рабочего класса». В Санта-Барбаре он прошел много курсов по изобразительному искусству, но все же намеревался поехать в Стэнфорд делать дипломную работу по английскому. Университетский консультант, однако, предложил ему попробовать поступить в школу искусств Йельского университета, которая набирала способных студентов со всей страны. Серра послал в Йель двенадцать рисунков, ему предложили стипендию, и соблазн выбраться в такую даль, уж точно недосягаемую для тени брата, оказался непреодолимым. Серра провел в Йеле три года — с 1961-го по 1964-й, — и время было для него как нельзя более подходящим. Джозеф Альберс, художник и бывший преподаватель школы Баухауз, тремя годами раньше перестал возглавлять школу искусств, но его программа продолжала привлекать самых талантливых и честолюбивых студентов, многие из которых впоследствии стали известными художниками. «Самое замечательное, что было в Йеле, это состав студентов», — сказал Чак Клоуз, который учился вместе с Серрой. (В числе других его однокурсников — Брайс Марден, Нэнси Грейвз, Рэкстро Даунз и Стивен Поузен; Роберт Мэнголд учился на курс старше, Джонатан Борофски и Дженнифер Бартлетт — на курс младше.) «Нас там было тридцать пять или сорок парней и девчонок, — сказал Клоуз, — у каждого свой взгляд на вещи и свои боги. Мы требовали друг от друга большего, чем требовали от нас преподаватели, но при этом мы не забывали, что мы студенты. Тут не было иллюзий, никто не думал, что можно взять свою дипломную работу, поехать с ней в Нью-Йорк и рассчитывать на выставку». К постоянным йельским преподавателям добавлялись художники, приезжавшие на время из Нью-Йорка: Эд Рейнхардт, Джек Творков (в 1963 году он стал в школе искусств деканом), Роберт Раушенберг, Фрэнк Стелла и другие звезды, чьи визиты часто вызывали жаркие споры между студентами. В школе по-прежнему безраздельно властвовал абстрактный экспрессионизм. Серра, считавший себя тогда живописцем, штамповал то, что он сейчас называет «скверными подражаниями де Кунингу», но вместе с тем он в исступленном темпе впитывал в себя историю искусств. «Если тебе в библиотеке попадалась книжка с листами, склеенными краской, сразу было ясно: этого автора штудировал Ричард, — говорит Клоуз. — Он выделялся темпераментом. Он более лично все переживал, чем кто-либо другой. Затевал свирепые драки с ломанием стульев, с бросанием кистей, полных краски. Если он считал, что ты не прав, ты в его глазах был идиот — но на другой день непременно зайдет, спросит, как дела. Что-то в этом его негативизме было поддерживающее». По мнению Клоуза, ставшего позднее видным живописцем, дружба с Серрой стоила усилий; но она не всегда была возможна. В 1964 году, получив диплом магистра изобразительных искусств и грант от Йельского университета на поездку, Серра отправился в Париж. Квартиру поблизости от бульвара Распай он разделил с Нэнси Грейвз, своей йельской подругой, которая была там по программе Фулбрайта; швейцарка, сдававшая им квартиру, узнав, что они не женаты, пригрозила их выгнать, и поэтому они поженились. На теплоходе по пути в Европу Грейвз познакомилась с будущим композитором Филипом Глассом, и Гласс и Серра стали закадычными друзьями. «Фил водил меня на фильмы Бастера Китона, которых я раньше не видел, а я повел его в мастерскую Бранкузи», — вспоминает Серра. В мастерской Бранкузи, превращенной в Парижский городской музей современного искусства, Серра проводил очень много времени, делая зарисовки. «Тогда я впервые посмотрел на скульптуру серьезно, — сказал он. — Сила, простота и абстрактность этих работ по-настоящему на меня подействовала. Меня каждый день тянуло в эту мастерскую». По вечерам они с Глассом ходили в ресторан La Coupole и глазели там на Джакометти. «В Санта-Барбаре я в свое время написал курсовую об экзистенциализме, — сказал Серра, — и я перед Джакометти благоговел. Однажды он что-то нам сказал — видимо, заметил, что мы на него пялимся. Я спросил, нельзя ли нам прийти к нему в мастерскую на следующий день, и он сказал: хорошо, приходите в такое-то время. Мы пришли, но там никого не было».
Проведя год в Париже, Серра в свой черед получил фулбрайтовскую стипендию, и следующий год они с Нэнси Грейвз прожили во Флоренции. Кроме того, они съездили в Грецию, в Турцию, в Испанию. Первая встреча с Веласкесом, которая произошла в Прадо, имела для Серры поворотное значение. «Я окончил Йель как живописец, — сказал он, — но толком не понимал, как продвигать живопись вперед. Когда я увидел „Менины“, я подумал, что у меня нет никакой возможности к этому приблизиться: как он вводит зрителя в пространство, как включает художника в картину, с каким мастерством переходит от абстрактного коридора к фигуре собаки. Это меня, можно сказать, остановило. Сезанн не остановил, де Кунинг и Поллок не остановили, но Веласкес — это было посерьезней. Я бы это назвал последним гвоздем в крышку гроба, где лежала моя живопись. Когда я вернулся во Флоренцию, я взял все свои работы и выкинул в Арно. И решил начать с нуля, стал возиться с палками, камнями, проволокой, клетками, живыми животными и чучелами». Увидев некоторые его нагромождения клеток с объектами внутри, один итальянский дилер выставил их в своей галерее в Риме. Это стало неким предвестьем «арте повера» — европейского течения, предполагавшего использование нехудожественных материалов, течения, которое вышло на поверхность примерно годом позже. «Это носилось в воздухе, — сказал Серра, — но я не знал, что оно в нем носится».

Ричард Серра. Беллами. 2001. Источник: gagosian.com
Когда Серра и Грейвз в 1966 году вернулись в Нью-Йорк, по сравнению с тамошним миром искусства Париж и Флоренция показались им тихой застойной заводью. Гегемонию абстрактного экспрессионизма уничтожил поп-арт; нахальные образы, почерпнутые из массовой культуры, привлекли к этому искусству, казавшемуся понятным с первого взгляда и чрезвычайно занимательным, совершенно новую публику. Минимализм — суровый и безличный эстетический принцип, установленный такими работами, как картины с полосами Фрэнка Стеллы, механически изготовленные металлические ящики Дональда Джадда, ряды кирпичей или стальных пластин Карла Андре, и другими стратегиями, решительно отказывавшимися от композиции, метафоры и любого намека на самовыражение, — набирал силу, компенсируя малую привлекательность для массового зрителя способностью взращивать густые заросли критического анализа. За считанные недели после приезда Серра успел окунуться в художественную среду Нижнего Манхэттена и оседлать вторую волну минимализма, войдя (наряду с Робертом Смитсоном, Брюсом Науманом, Майклом Хайзером и Эвой Хессе) в группу молодых художников, делавшую поверхность этого движения не такой гладкой и скучной за счет необычных материалов и отчетливо личного подхода. Почти каждый вечер они встречались в задней комнате Max’s Kansas City — манхэттенского ресторана с баром, который его владелец Микки Раскин сделал излюбленным заведением художников (Энди Уорхол и его свита занимали большой стол в углу под неоновой скульптурой Дэна Флавина). Это было похоже на Йель: горячие споры, свирепые расхождения во мнениях, а пить при этом стали куда больше. «Помню, какой энергией он наполнял комнату, каким был импульсивным и склонным к соперничеству, — вспоминает художница Нэнси Холт, которая была замужем за Бобом Смитсоном. — Он постоянно пытался тебя спровоцировать, вызвать на что-то. С Бобом он всегда был рад сразиться». Серра и Смитсон — это были два интеллекта тяжелой весовой категории, укреплявшихся в столкновениях друг с другом; их жесткая дружба имела важное значение для обоих. Серра в те времена очень часто курил марихуану. Порой он становился невыносимым задирой, но его честолюбие и увлеченность внушали людям уважение. «Ричард выглядит этаким мачо, бульдогом, он и правда такой, но в этом он не весь, и другая его часть не менее сильна, — сказала мне Элизабет Марри, другая художница того поколения. — Я не знаю человека, который копал бы так же глубоко, как Ричард».
Серра начал работать с отходами резины, которые выбрасывали работники близлежащего склада; он сгибал куски резины, вешал их, неупорядоченно комбинировал со светящимися неоновыми трубками. Эти работы понравились Ричарду Беллами, молодому дилеру с очень зорким глазом, но без особой деловой хватки, и он включил их в групповую выставку в галерее Ноа Голдовски (в начале шестидесятых Беллами выставлял Розенквиста, Лихтенштейна, Олденбурга и других восходивших звезд предыдущего поколения в своей Green Gallery; когда эта галерея разорилась, многие его художники перешли к Лео Кастелли). Никто в группе, куда входил Серра, не хотел делать того, что делалось раньше. Большинство были увлечены идеей процесса; как и множество других людей искусства в Нью-Йорке тех лет — танцоров, кинематографистов, мастеров перформанса, музыкантов, — они верили, что процесс создания чего-то более интересен и важен, чем результат. Взаимного влияния между различными видами искусства было очень много. Серра и его друзья ходили на представления в Джадсоновский театр танца, где молодые новаторы (Ивон Райнер, Симоне Форти, Стив Пакстон) экспериментировали с обычными, нетанцевальными движениями и случайными воздействиями на артиста во многом так же, как художники использовали резину, камни, мусор и случайное расположение объектов и образов. (Хотя Серру не тянуло выступать на сцене, танцором он был и остается великолепным; в день смерти Элвиса Пресли он три часа танцевал под его песни с Элен Творков, дочерью Джека Творкова.) Не слишком прочному браку Серры с Нэнси Грейвз пришел конец, когда он полюбил художницу Джоан Джонас, выступавшую в жанрах перформанса и видео. Грейвз к тому времени набрала свой собственный ход как мастер изобразительного искусства, ее выставка реалистически выполненных скульптур верблюдов в натуральную величину в галерее Грэма имела большой успех.
Процессуальное искусство не было лишено политических обертонов. Избавляясь от пьедестала (по словам Серры, это был «крупнейший шаг столетия») и используя такие дешевые, легкодоступные материалы, как металлолом и обрезки ткани, скульпторы тем самым отвергали иерархию и авторитеты, проявляли готовность черпать мудрость отовсюду. Серра, некогда специализировавшийся в английском, составил список глаголов: «Катить, мять, складывать, гнуть, скручивать…»; в него вошли десятки глаголов действия. «Я был очень сильно увлечен физической стороной работы, — говорит он. — Мне пришло в голову, что не надо думать о том, какой получится скульптура, как ты ее намерен решить композиционно, а надо, может быть, просто осуществить эти глаголы, применить их к материалу и не заботиться о результате. Вот я и начал кромсать, резать и гнуть свинец». На мысль о свинце его навел Филип Гласс, подрабатывавший водопроводчиком. (Серра в то время подрабатывал перевозкой мебели; у него был грузовик и было несколько друзей, готовых два дня в неделю поработать грузчиками, что приносило им достаточно денег, чтобы в остальные дни заниматься творчеством.) Свинец почти так же пластичен, как резина, но отличается от нее весом, массивностью. Серра пробовал разными способами, зачастую при помощи рулонов листового свинца, подпирать тяжелые свинцовые пластины, прислоненные к стене. Серра и Гласс, который ему помогал, сделали более тридцати таких подпертых свинцовых композиций. «Часть из них были неудачными, — сказал Серра, — но кое-какие получились». Кроме того, он пробовал расплескивать расплавленный свинец рядом со стеной, что было опасно, но увлекательно; застывая, свинец образовывал красивые кружевные V образные формы. В декабре 1968 года Серра показал одну работу из расплесканного свинца, одну подпертую свинцовую композицию и одну композицию из разбросанной резины на групповой выставке в галерее Лео Кастелли в бывшем складском помещении на Верхнем Манхэттене. Выставка включала в себя работы большинства художников, ориентированных на процесс, и знаменовала серьезный сдвиг в развитии минимализма. «Новый авангард» — важная книга Грегуара Мюллера с фотографиями Джанфранко Горгони — вышла в 1972 году с выразительным снимком на обложке: Серра в маске сварщика выплескивает из ковша расплавленный свинец. Он выглядит здесь этаким Посейдоном рабочего класса.

Фрагмент экспозиции ретроспективной выставки Ричарда Серры в Музее современного искусства, Нью-Йорк. Фото: twi-ny / flickr.com
Выставка на складе у Кастелли привлекла большое внимание, и ее прямым следствием стали демонстрации работ Серры на ряде престижных групповых выставок в США и Европе. Вскоре у него образовалась команда помощников. Филип Гласс оставил работу водопроводчика и сделался платным ассистентом Серры. Йельский однокашник Серры художник Чак Клоуз, музыкант Стив Райх, писатель Руди Вурлитцер, актер Сполдинг Грей и еще два-три человека готовы были прийти на помощь, когда надо было собирать и устанавливать тяжелые композиции, например, «Одну тонну (карточный домик)» — четыре ничем не закрепленные свинцовые пластины четыре на четыре фута, поставленные вертикально и опирающиеся одна на другую. «Ему хватило ума никогда не брать в помощники скульпторов, — сказал Клоуз. — Однажды было так: вечером в пятницу мы установили и подперли несколько свинцовых работ для выставки на складе у Кастелли. Тогда он еще не подмешивал в свинец сурьму ради жесткости. И в выходные, когда склад был закрыт, все это рухнуло». К счастью, людей при этом не было и никто не пострадал. «Не думаю, что Ричард сознательно привносил элемент опасности, хотя опасность была, и не маленькая», — сказал мне Гласс. Серра твердо заявляет, что возможность обрушения никогда не была частью его эстетики. «Я совершенно не был в этом заинтересован, — сказал он мне. — Я хотел показать принцип взаимозависимости: эти элементы поддерживали друг друга, хотя ничего там не было ни привинчено, ни приварено». Сурьму он начал добавлять в свинец после того, как в Сент-Луисе рухнула композиция из трех элементов, развалив заднюю стену дома Джо Хелмана. Хелман, коллекционер, ставший арт-дилером, годы и годы потом, несмотря на это, сохранял за собой право покупать и продавать работы Серры.
Вначале Серра категорически не хотел работать со сталью. «Сталь — очень традиционный материал, я и близко к ней подходить не хотел, — сказал он. — Пикассо, Гонсалес, Колдер делали из стали замечательные вещи. Но потом я подумал: вообще-то я могу использовать сталь так, как ее используют в промышленности, — для веса, для поддержки груза, для статического равновесия, для трения, как противовес. Я кое-что знал про сталь, так что почему нет?» В 1970 году он задвинул большой лист из горячекатаной стали в угол помещения так, что он стоял вертикально за счет самого угла. Идея пришла ему в голову годом раньше, когда он по заказу Джаспера Джонса делал скульптуру из расплесканного свинца. Джонс, чье влияние на поколение Серры было таким же огромным, как влияние Поллока, хотел купить другую работу из расплесканного свинца, которую Серра показал в 1969 году на групповой выставке в музее Уитни; но эту скульптуру купить было нельзя, и Серра согласился сделать еще одну в мастерской Джонса на Хаустон-стрит. Он свободно, без закрепления поставил там в углу небольшую свинцовую пластину, чтобы расплескивать по ней жидкий свинец, и это навело его на мысль, что угол может обеспечивать структурную устойчивость. Угловая работа из стали под названием «Удар», которую он окончил в 1971 году, в длину составляла двадцать четыре фута, в высоту восемь, и Серре пришлось, чтобы ее установить, прибегнуть к услугам такелажников. «Вот когда я оставил позади идею мастерской, — сказал он. — Это была огромная перемена. Я начал думать о том, чтобы разграничивать в зале пространство и определять его характер, о том, чтобы зритель не просто смотрел на работу, а проходил сквозь нее и обходил ее кругом, затрачивая время. С тех пор зритель стал частью работы — раньше этого не было. После „Удара“ моей мастерской по сути стал сталеобрабатывающий завод».
Последующие два года вместили в себя много событий. Они с Джоан Джонас на пять недель поехали в Японию, где посещали буддийские храмы и сады, а вечерами смотрели спектакли театров но и кабуки. Сады подарили ему, как он выразился, «новое ощущение того, как ставить под контроль пространство, используя время». Вернувшись на родину, он поехал посмотреть на .Двойное отрицание. Майкла Хайзера — на новаторскую работу в жанре ленд-арта, представляющую собой две глубокие траншеи на плоскогорье в штате Невада. Серра помог Бобу Смитсону, своему ближайшему другу и сопернику из соперников, размечать «Спиральный мол» — закручивающийся архипелаг из камней, грунта и кристаллов у северного берега Большого Соленого озера в штате Юта. Хотя Серра не стал мастером ленд-арта, меняющим, подобно Смитсону и Хайзеру, очертания местности в отдаленных районах, размах и сила воздействия обоих этих проектов произвели на него впечатление, и, безусловно, он помнил о них, когда получил свой первый крупный заказ — на композицию для издателя и коллекционера произведений искусства Джозефа Пулитцера, которую необходимо было установить на территории при сельском доме Джо и Эмили Пулитцеров недалеко от Сент-Луиса. «Я был очень озабочен из-за этой работы, — сказал Серра. — У них в доме висела одна из картин Моне с кувшинками, еще там были красивая скульптура Эллсуорта Келли, скульптура Матисса, скульптура Бранкузи, картины Ротко и Сезанна — всё вещи очень высокого уровня, так что заявиться туда и сесть в лужу мне не хотелось». Работа заняла у него более года. Пару раз озабоченность Серры доводила его до серьезных срывов. Однажды за ужином у Джо Хелмана в Сент-Луисе им овладела пьяная ярость, и он принялся оскорблять всех сидевших за столом, в том числе Джо Пулитцера, чьими личными качествами, стилем жизни и политическими взглядами он вообще-то глубоко восхищался. (Газета Пулитцера St. Louis Postispatch одной из первых выступила против войны во Вьетнаме.) Хелману и прочим этот вечер запомнился как нечто ужасное, но все, как у людей обычно бывало в отношениях с Серрой, преодолели случившееся, и произведение было закончено — три листа из кортеновской стали длиной в шестьдесят футов каждый, установленные в поле под точно выверенными углами и превращающие пейзаж в работу скульптора, которая включает в себя и пространство, и время, и идущего зрителя.
Свирепая борьба с препятствиями, которые Серра в определенной мере сам себе и создавал: этот сценарий представляется обычным для его карьеры. Получив заказ на скульптуру под открытым небом для нового здания Уэслианского университета, он спроектировал сорокафутовую башню из поддерживающих друг друга стальных листов — прямую наследницу «Карточного домика», — но ее отвергли: университетский архитектор сказал, что она слишком высокая (четыре года спустя башню установили около Городского музея в Амстердаме). Предложение Серры для экстерьера парижского Центра Помпиду тоже не было принято, поскольку Ренцо Пья но, один из архитекторов здания, счел, что предлагаемое выглядит слишком назойливо. Длинный язык Серры стоил ему крупнейшего скульптурного заказа десятилетия — от Корпорации по перепланировке Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. У него постоянно возникали стычки с главным архитектором проекта Робертом Вентури. Увидев акварель, где были изображены две спроектированные Вентури колонны со звездно-полосатым рисунком, он сказал, что с таким же успехом на них можно было бы водрузить орла и свастику; вскоре его уволили.
В 1971 году в Центре искусств Уокера в Миннеаполисе скульптура Серры из двух незакрепленных частей при ее демонтаже упала, Ричард Серра придавив рабочего. Он умер по дороге в больницу. Последовал суд, на котором ответственность за несчастный случай была возложена на изготовителя, нарушившего проектные требования, и на группу такелажников, не исполнившую письменные указания инженера, поскольку старший в ней не умел читать. Несчастные случаи во время тех или иных работ, разумеется, возможны. Никто не винил Александера Колдера, когда в 1970 году упал, убив двоих рабочих, кусок его скульптуры, которую устанавливали в Принстоне; но Серру, прослывшего человеком заносчивым и агрессивным, многие осудили. «Меня травили, высмеивали, позорили, мне говорили друзья, другие художники, директора музеев, критики и дилеры, что мне надо перестать работать», — сказал он. Серра был потрясен трагедией и ее последствиями. «Я восемь лет потом ходил к психоаналитикам, — признался он, — и мне пришлось пуститься в бега. Я уехал в Европу и начал работать там».

Ричард Серра. Наклонная арка. 1981. Фото: Burt Roberts
Человек, который сам нередко был своим худшим врагом, он вместе с тем мог внушать и испытывать глубокую дружескую преданность. В 1973 году, когда в катастрофе легкомоторного самолета в тридцать четыре года погиб Боб Смитсон, Серра поехал в Техас и помог Нэнси Холт окончить «Скат в Амарилло» — работу в жанре ленд арта, которую Смитсон не успел завершить. Он очень многое сделал ради карьер Филипа Гласса и кинорежиссера Майкла Сноу, устраивая им концерты и просмотры в Европе; Гласс, в свою очередь, познакомил Серру с островом Кейп-Бретон, куда они оба ездят с начала семидесятых. («Что мне больше всего нравится в Новой Шотландии — это свет, — говорит Серра. — Северный свет — это как свет после дождя. Я не люблю ленивый, жирный средиземноморский свет».) Серра был глубоко благодарен Лео Кастелли, который стал его дилером в 1969 году, поддержал его после несчастного случая в Миннеаполисе и продолжал каждый год его выставлять, хотя его работы плохо продавались; но человек, которому, по его словам, он больше всего обязан, — это Александер фон Берсвордт Валльрабе, его немецкий дилер, работавший с ним с 1975 года. Благодаря связям фон Берсвордта Серра получил доступ на высоком уровне к сталеобрабатывающим заводам Германии (тесть дилера был директором компании Krupp), и его неустанная поддержка принесла Серре много заказов. Помимо прочего, именно в галерее фон Берсвордта в Бохуме Серра познакомился с немкой Кларой Вайерграф, историком искусства и исследовательницей творчества Мондриана, с которой он начал жить в 1977 году и на которой женился в 1981 году. За месяц до знакомства с Кларой покончила с собой мать Серры, и ее гибель, как он считает, во многом предопределила то, что он наконец оказался способен на устойчивые отношения. «Когда твоя мать кончает самоубийством, это довольно сильно меняет твое отношение к женщинам, — сказал он. — Раньше я вряд ли мог быть таким открытым и таким незащищенным». Серра сказал мне еще, что самоубийство матери, которого никто в семье не мог объяснить, «довольно сильно обострило отношения» между ним и двумя его братьями. Младшего брата Руди, который преподает скульптуру в университете Ратгерса, он все-таки иногда видит, но с Тони, живущим в Сан-Франциско, у него за двадцать пять лет практически не было контактов.
Хотя Серра не отказался окончательно от скульптурных работ в природном окружении вроде той, что он выполнил для Пулитцера, он предпочитал устанавливать свои скульптуры в городской среде. Идеальными были для него места с «интенсивным движением транспорта» — такие, как «островок. перед железнодорожным вокзалом в Бохуме, где в 1977 году при поддержке фон Берсвордта он установил композицию из вертикальных стальных листов под названием «Терминал». В начале восьмидесятых ему предложили три подобных участка на Нижнем Манхэттене. Это была потрясающая возможность добиться триумфа в родных стенах и посрамить скульпторов, к которым он испытывал презрение, — таких, как Ногути и Колдер, чьи работы, установленные в общественных местах, на его взгляд, неудачны, потому что не вписываются в окружение. («В лучшем случае, — говорит Серра, — это вещи, изготовленные в мастерской и подогнанные к участку. Это перемещенные, бездомные, претенциозные объекты, которые говорят одно: „Мы представляем современное искусство“».) Галерея Кастелли поддержала и оплатила установку «Арки в кольцевой развязке Сент-Джон» — изящно изгибающейся стальной стены длиной в двести футов и высотой в двенадцать на пустой площадке у выезда из туннеля Холланда. Видимая главным образом с воздуха и из машин, она не вызвала споров и, по общему мнению, стала большим успехом Серры. Вторую свою нью-йоркскую работу — TWU (аббревиатура означает Transport Workers Union, то есть «Профсоюз транспортных рабочих») — он сделал за счет галереи М фон Берсвордта. Это три высоких вертикальных стальных листа (высота — тридцать шесть футов) на узком треугольнике на пересечении Западного Бродвея, Ленард-стрит и Франклин стрит; в этой части города жили и работали многие художники, и, судя по характеру граффити, которыми скульптуру регулярно портили («Убить Серру», к примеру), мнения о ней местных жителей были очень разными. А третьим его нью-йоркским заказом была «Наклонная арка», конфликт из-за которой стал самым острым из всех, что породило искусство восьмидесятых, — скульптура, чья слава проистекает из битвы за то, чтобы ее убрали.
Заказала «Наклонную арку» Администрация общих служб федерального правительства в рамках программы, по которой полпроцента стоимости строительства того или иного правительственного здания шло на произведения искусства. АОС рассматривала и одобряла предложение Серры на всех этапах проектирования: на стадии рисунка, макета, модели в натуральную величину на месте установки реального объекта, и она прекрасно знала, что должно получиться в итоге: изогнутая, слегка наклоненная внутрь стена из кортеновской стали высотой в двенадцать футов и длиной в сто двадцать, рассекающая надвое пустую площадь перед зданием федеральных ведомств имени Джейкоба К. Джавица на Нижнем Манхэттене. Однако сразу, как только в 1981 году «арка» была установлена, на нее начали реагировать с необычной враждебностью. Серру это не удивило. «В своих вещах я не делаю поправок на человеческие переживания и опыт вне условностей скульптуры как скульптуры, — сказал он в интервью в 1980 году. — Моя публика очень немногочисленна, иначе и быть не может». Серра полагал, что со временем люди изменят мнение о «Наклонной арке» к лучшему. Ведь люди, в конце концов, составляли существенную ее часть: он хотел включить их в пространство своей скульптуры. «Она будет… охватывать людей, идущих по площади, — говорил он. — Установка скульптуры изменит площадь как пространство. Благодаря ей оно будет ощущаться главным образом как производное от скульптуры».
Нет сомнений, что многим служащим, работавшим в здании имени Джавица (которое само являет собой необычайно унылый образчик казенной архитектуры), вид «Наклонной арки» был неприятен: она казалась им недоброй, устрашающей преградой, ее наклон рождал у иных пешеходов чувство, что она вот-вот на них упадет. Они не просили устраивать им переживание скульптурного пространства в обеденный перерыв и не хотели видеть эту работу. Тем не менее она, возможно, стояла бы там по сей день, не ополчись против нее Эдвард Д. Ре, федеральный судья, чей кабинет находился в этом здании. Судья Ре писал в АОС письма, он громко и неустанно возмущался «стеной из ржавой стали», которая «осквернила» площадь, давала, по его мнению, прибежище крысам, неким образом угрожала безопасности граждан и мешала использовать площадь для концертов и других увеселительных мероприятий. Его протесты явно задели людей за живое. В 1985 году АОС провела трехдневные общественные слушания, на которых пятьдесят восемь человек высказались против «Наклонной арки», сто двенадцать — за. В число ее защитников вошли такие известные люди, как Джоан Мондейл, как миссис Мэрион Джавиц, выступившая от лица бывшего сенатора Джавица, в честь которого было названо здание, а также весьма многие из художественного мира Нью-Йорка. Не всем из них сильно нравилась скульптура Серры, но они считали, что такой удар по процессу вхождения искусства в общественную сферу станет ужасающим прецедентом. Те, кто поддержал Серру, жаловались, кроме того, что региональный администратор АОС по Нью-Йорку Уильям Дж. Даймонд нарушил процедуру, высказавшись до слушаний в пользу перемещения скульптуры, против которого Серра, как обычно, непримиримый, возражал категорически. Эта работа «неразрывно связана с конкретным местом», заявил он. «Перенести ее — значит уничтожить». Когда АОС вскоре после слушаний решила все-таки переместить скульптуру, Серра подал против нее судебный иск на $30 миллионов за нарушение контракта. Процесс тянулся несколько лет, но в 1989 году суд отказал Серре, и «Наклонную арку» перенесли в Бруклин на государственную парковочную площадку.
Серра до сих пор обижен на то, что он считает предательством со стороны своего собственного правительства. Этот эпизод, он чувствует, повредил его карьере, из-за него он долго потом не получал новых заказов в Соединенных Штатах. Надо, однако, отметить, что нью-йоркский Музей современного искусства устроил в 1986 году большую ретроспективу его работ, что Александер фон Берсвордт продолжал добывать ему престижные заказы в Европе и что властность, изобретательность и скульптурная мощь, которые Серра вкладывал в свои вещи, не переставали расти. Он — редкий пример художника, чей творческий путь, кажется, лишен периодов неубедительности и упадка. Не обошел его и финансовый успех: почти в каждом крупном музее мира сейчас есть хотя бы одна работа Серры, и с тех пор, как он в 1992 году ушел из галереи Кастелли (он стал выставляться в галереях Blum Helman, Pace, Matthew Marx, а теперь большей частью у Ларри Гагосяна), денежные вознаграждения были под стать почти беспрецедентному потоку похвал со стороны критиков. (Одна из .перекошенных спиралей. с недавней выставки у Гагосяна была продана более чем за $3 миллиона.) «Ричард сумел остаться внутри очень мощного „словаря“, который несомненно принадлежит ему и только ему, и при этом он никогда не почивал на лаврах», — говорит Кирк Варнедо, приобретший несколько крупных работ Серры для Музея современного искусства в свою бытность директором отдела живописи и скульптуры. «От брутальности и примитивной угрожающей агрессивности некоторых ранних работ он поднялся до искусства, которое можно назвать истинно возвышенным, — сказал мне Варнедо. — Мне не приходит в голову ничего, что могло бы с этим соперничать. Сама идея стремления к монументальности без всякого ощущения иронии, подрывающей это стремление, — такое очень трудно найти в современном искусстве».
После «Наклонной арки» контрактами на работы Серры занимается исключительно Джон Силберман — юрист, специализирующийся на работе с художниками. Согласно системе, разработанной Силберманом, если клиент, частный или корпоративный, желает заказать работу Серры, скульптор выезжает на место и решает, хочет ли он сделать клиенту предложение. Если хочет, клиент должен уплатить предварительно некую сумму, которая может достигать $50 тысяч. Серра затем получает год на подготовку проекта, который клиент может одобрить или отвергнуть (на данный момент ни один проект отвергнут не был). Если проект одобрен, клиент платит Серре намного большую сумму (семизначную); в нее входят цена произведения и расходы на его изготовление, но не стоимость транспортировки и установки, которые клиент оплачивает непосредственно. Ходили слухи, будто Серра заставляет клиентов подписывать юридически обязывающие документы, запрещающие им перемещать скульптуры, которые он установил, но Силберман заверил меня, что это .совершенно не соответствует действительности». Бескомпромиссность Серры в отношении своей работы не мешает ему проявлять в переговорах по поводу контрактов максимум профессионализма и реализма. .Если он называет кого-то засранцем, это, конечно, делу не помогает, — говорит фон Берсвордт, — но он редко делает это без причины».
Зябким, пасмурным февральским днем мы с женой отправились в городок Бикон, штат Нью-Йорк, расположенный на Гудзоне; фонд Dia перестраивает там бывшую кондитерскую фабрику компании Nabisco в музей для своего собрания произведений искусства, созданных после 1960 года. Dia коллекционирует работы менее чем двадцати художников, но делает это чрезвычайно основательно; в числе избранников — Йозеф Бойс, Энди Уорхол, Джон Чемберлен, Дональд Джадд, Дэн Флавин, Ханне Дарбовен, Уолтер Де Мария, Майкл Хайзер, Сай Твомбли и Ричард Серра. Хотя музей откроется только весной, три очень большие скульптуры Серры там уже были установлены, и мы приехали понаблюдать за установкой четвертой — «перекошенной спирали», несколько дней назад доставленной с завода в Германии. Выдав нам каски, нас провели в крытое депо при фабрике, где в прошлом загружались и разгружались товарные вагоны для Nabisco. Три перекошенных эллипса — три предтечи перекошенных спиралей — заполняли огромное пространство так плотно, что мы едва протиснулись вдоль одной из стен. Серра был в другом конце депо, разговаривал с немецким такелажником Эрнстом Фуксом, который руководит установкой самых важных элементов. В своем спортивном свитере с капюшоном и в вязаной шапке Серра выглядел ровно так же, как Фукс и восемь или десять других такелажников, отличали его лишь вездесущий черный блокнот и карандаш, с помощью которых он время от времени наглядно пояснял ту или иную идею или указание. Каски на нем не было, как и на его жене Кларе, стройной, красивой женщине, чья тихая компетентность неоценима для работы Серры, но которая вместе с тем ясно дает понять, что никак не влияет на его эстетические решения.
Четыре из пяти составных частей спирали уже были на месте в этой части здания, подвешенные на тросах примерно в дюйме от пола, а пятую поднимали краном с грузовой платформы, стоявшей на дороге. Затем груз стали медленно опускать, трое рабочих, стоявших на полу, направляли его движение, пока нижний край не лег на три небольшие платформы на колесах. После этого такелажник влез на приставную лестницу и отсоединил груз от крана. До того момента я не осознавал, что этот огромный кусок стали в четырнадцать футов высотой, весом в двадцать две тонны может стоять сам по себе, без поддержки. «Опрокидывающий момент уравновешивается реакцией опоры, — объяснил Серра. — Многие из этих штук наклонены где назад, где вперед, но, если их поставить, они устойчивы». Серра был взволнован, бодр. («Когда установка идет хорошо, возраст ему нипочем, — сказал мне Илан Уингейт, директор галереи Гагосяна. — Он как семилетний мальчик, которому купили новый грузовичок».) Чуть погодя он отбежал поговорить с крановщиком. «Хотел его поблагодарить, — объяснил он, вернувшись. — Дальше будет другой крановщик. Этот мне говорит: „Не надо меня благодарить, лучше замолвите за меня слово начальнику, спасите мою задницу“. Так я и сделал». Если бы Серра ко всем относился так же, как к такелажникам, ему было бы гораздо легче жить. Некоторые говорят, что он смягчился, но другие (в том числе его бывший дилер) утверждают, что он может быть таким же вспыльчивым и безжалостным, как раньше. Его старинный друг Чак Клоуз, на которого Серра недавно грозился подать в суд из-за конфликта по поводу интервью с ним в книге, написанной Клоузом, рассказывал, как подошел к Серре на вечеринке и попытался сказать ему (несмотря на то, что Серра перестал с ним разговаривать), что восхищен его недавней выставкой в музее Гуггенхайма в Бильбао, а Серра ему в ответ: «Да какая мне, на хрен, разница, что ты думаешь?» («Я этого не говорил, — сказал мне Серра. — Я ничего ему не ответил. Я повернулся к нему спиной и отошел».) «Я по-прежнему считаю Ричарда своим другом, необычайно важным человеком в моей жизни, — говорит Клоуз. — По-моему, он лучший скульптор из всех, что сейчас работают, и, может быть, вообще лучший из художников. Я не считаю его плохим человеком. Но ему повезло, черт его дери, что он великий мастер, потому что вообще-то такие вещи не прощаются».
В тот день в Dia, когда мы в короткий перерыв сидели за кофе в ближайшей булочной, я заметил, что вижу парадоксальное сближение между индустрией в масштабах XIX столетия и искусством XXI века: фабрики превращаются в музеи, немецкий сталеобрабатывающий завод работает исключительно для нужд искусства, не говоря уже о творческом пути Серры, создающего огромные и притом исполненные поэзии скульптурные работы из стали в промышленных объемах. «Спиноза предсказал, что искусство дематериализуется, — промолвил Серра, — и во многом так оно и есть. В определенном смысле моя работа — антитеза этому. Но есть разные процессы, идущие одновременно. Искусство дематериализуется, и в то же время масштаб растет. Я использую тонны стали, чтобы создать ощущение легкости».
Поразмыслив с минуту, он продолжил: «Я только что видел выставку Уорхола в Лондоне, и я от нее в восторге. Но это совсем, совсем другое переживание, чем когда ты проходишь через перекошенный эллипс. Это разные вещи по самой сути. Когда ты смотришь на его банки с супом Campbell, ты играешь в стратегическую игру, играешь с тем, как живопись соотносится с фигуративной формой, с рекламой, со СМИ, с коммерциализацией. Абстракция дает тебе нечто иное. Она меняет отношения зрителя с его эмоциями. Я считаю, что абстракция может передать ту сторону человеческого опыта, которая фигуративному искусству недоступна, — и она еще в стадии младенчества. Абстрактное искусство существует сто лет, а это ничтожно мало». Разговор длился недолго: Серра спешил вернуться в Dia. Такелажники хотели работать допоздна, чтобы закончить установку и не платить за еще один день аренды крана, и ему не хотелось их подводить. «Я всю жизнь работаю с такелажниками, — сказал он счастливым голосом. — У меня с ними прекрасные отношения. Меня восхищают люди, которые каждый день трудятся в поте лица, чем бы они ни занимались».
5 августа 2002 года
Вторая ретроспективная выставка Серры в нью-йоркском Музее современного искусства, организованная совместно с фондом Dia летом 2007 года, близко подошла к тому, чтобы канонизировать его как величайшего художника Америки из ныне живущих. Безусловно, никто — за возможным исключением живописца Эллсуорта Келли — не сделал больше него для того, чтобы доказать: абстрактное искусство по-прежнему жизнеспособно как носитель глубокого смысла и эмоциональной истины.




