Даниэль Арасс. Рассказы о живописи
В 2003 году, незадолго до своей смерти, искусствовед Даниэль Арасс записал на радио France Culture цикл из 25 передач «Рассказы о живописи» — обзор истории искусства от изобретения перспективы до появления абстракции. На основе стенограмм этих выступлений была создана книга, русский перевод которой недавно вышел в издательстве V–A–C Press. С любезного разрешения издательства публикуем главу «Польза и вред анахронизмов».
 Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды (Взятие Христа под стражу). Около 1304–1306. Фреска. Фрагмент. Капелла Скровеньи, Падуя
Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды (Взятие Христа под стражу). Около 1304–1306. Фреска. Фрагмент. Капелла Скровеньи, Падуя
Анахронизмы — один из наиболее любопытных и наиболее проблемных аспектов истории искусства уже потому, что историк всегда был и остается анахроничным по отношению к своему предмету. Однако изменившиеся в последние тридцать лет условия восприятия произведений искусства делают вопрос об анахронизмах особенно интересным, даже волнующим. Принцип, которым руководствуется любой историк, — пытаться по возможности (я говорю: хотя бы пытаться) избегать анахронизмов. На этом принципе строится вся историческая наука, и нет историка, который назвал бы себя приверженцем анахронизмов, объявив, что с радостью их допускает и гордится ими. На анахронизмы имеют право поэт, художник… Даже философ — более того, таков, возможно, его долг: переносить предмет мысли из прошлого, из времени, к которому этот предмет принадлежал, в настоящее, в контекст сегодняшних проблем, и тем самым наполнять жизнью. Историк же вынужден подчиняться странному, хотя и интеллектуально стимулирующему ограничению: стараться избегать того, что является самой сутью его отношения к предмету исследования.
Простой анахронизм из числа самых нежелательных: утверждение, что Рафаэль жил в XVIII веке; так ошибаться не имеет права даже студент первого курса после двух недель занятий. Несколько более сложный: говорить о реализме в живописи до появления Курбе. По-моему, это серьезный анахронизм. Понятие реализма появляется во французском языке в начале XIX века (причем первая строка в тогдашнем словарном определении реализма гласит: «платоновская теория идей»). И лишь в 1855 году Курбе утверждает употребление термина «реализм» в истории искусства, связывая его с вполне конкретным содержанием, которое проясняет и делает основой собственной теории: «Меня называют реалистом — хорошо, будем реалистами!» Таким образом, некоторые историки искусства, говорящие о реализме Джотто, попросту не понимают этого художника. Безусловно, Джотто интересуется реальностью, осмысляет ее не так, как Дуччо или Чимабуэ, и хочет изображать по-другому. Но никакого реализма в его подходе нет — иначе нельзя будет понять, почему реалистом называет себя Курбе, да еще и заявляет, что он этим гордится.

Еще один пример: братья Ленен, замечательные французские художники, работавшие в XVII веке. К ним термин «реализм» особенно неприменим. Вспомните безукоризненно скомпонованные, статичные картины Лененов: это историческая живопись, организованная по принципу фриза. Так, в доме крестьян самый обычный невысокий стол почему-то застелен роскошной белой скатертью в складках: абсолютно нереальное зрелище. Проблема вообще не в том, чтобы назвать или не назвать братьев Ленен реалистами; нужно понять другое: как именно они определяют свое отношение к изображению реальности и почему, в сравнении с караваджистами или фламандцами, облагораживают изображение крестьянского быта. Наше сегодняшнее представление о том, как достоинство реальных вещей показано на картинах братьев Ленен, не имеет ничего общего с понятием реализма, которое порой используется для характеристики их живописи. Кстати, сначала, когда братьев только открыли заново, их называли «живописцами реального» — эта формулировка намного содержательней.
Еще один нежелательный анахронизм, о котором я хотел бы сказать: слово «пропаганда» в применении к грандиозным циклам фресок и роскошному декору королевских дворцов, например Версаля или галереи Франциска I в Фонтенбло. Известно, что Франциск I, как только дворцовая галерея была достойно украшена, принял в Фонтенбло Карла V, желая показать, что окончательно оправился после освобождения из плена, в котором тот держал его два года, и что заточение не нанесло урона его могуществу. Но это была не пропаганда, а политическое послание государя другому государю. Этимологически слово «пропаганда» означает распространение с помощью тех или иных средств — аудиальных или визуальных — политического послания, предназначенного для привлечения на свою сторону известного числа людей. В истории искусства можно говорить о пропаганде лишь тогда, когда, скажем, сторонники Лютера начинают распространять листовки с гравюрами, обличающими папу. В этом случае речь идет о самой настоящей пропагандистской работе, которую ведут лютеране. Но называть пропагандой алтарные картины или цикл фресок, всегда остающиеся in situ, нельзя; другое дело, если картины или фрески воспроизводятся в виде гравюр, получающих затем широкое распространение.
Анахронизм, который встречается часто и очень меня настораживает: рассуждения о психологии художников. Психология Микеланджело, психология Леонардо да Винчи… Слово «психология» получило точный и актуальный смысл лишь в конце XVIII века, прежде всего в сочинениях Руссо, который и был одним из изобретателей психологии в современном ее понимании. «Исповедь» — ярчайший образец психологии, то есть объяснения поступков и психических реакций человека с опорой на его историю, на условия формирования его личности. Ранее, в XVII веке, слово «психология» означало науку о явлении духов. Говорить о психологии в пьесах Расина — серьезная ошибка! Разумеется, в XVII веке людям была свойственна и психическая деятельность, и сложная внутренняя жизнь, но они не прилагали к своей психике категории психологии, которая появляется лишь в конце XVIII века и развивается по преимуществу в XIX веке. Следовательно, обсуждать психологию художника XIX века мы вправе, поскольку он сам осмыслял себя в соответствующих терминах, но говорить о психологии Расина, о психологии Микеланджело или Леонардо — очевидный выстрел в молоко.
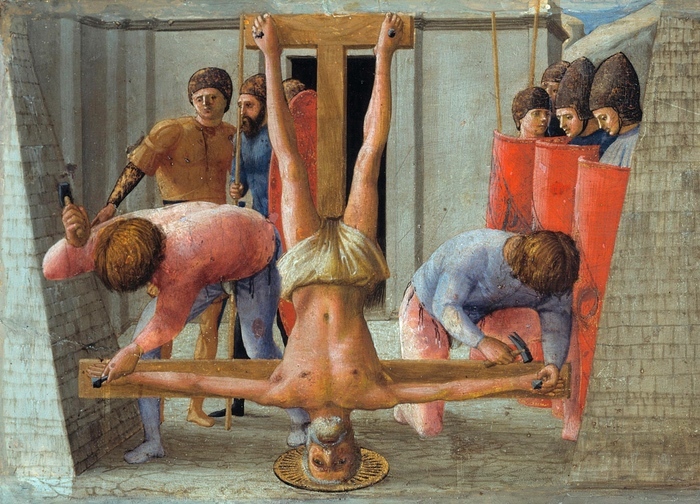
Эти люди мыслили о себе не в терминах психологии, то есть исторического формирования структуры личности, но применяли другие понятия: темпераменты, гуморы, влияние небесных светил, характеры. Акцент делался на различении темперамента и характера. Темперамент — природный баланс четырех гуморов, образующих как макрокосм, так и микрокосм; характер — результат трансформации темперамента под воздействием опыта. Но истинным психическим стержнем человека все же остается темперамент. Около 1580 года появляется трактат Idea del tempio della pittura («Понятие храма живописи») Ломаццо[1], в котором сделана попытка соотнести формы и стили живописи с темпераментом ее создателей: каждым из семи наиболее знаменитых художников управляет какая-то планета. Стили отвечают особенностям той или иной планеты. Тициан, если не ошибаюсь, подчиняется Луне, и его стиль лучше всего отражает влияние этого светила на практику живописцев. Некоторые люди до сих пор верят в объяснительную силу астрологии. Никто не лишает их этого права, однако преобладает другая тенденция: объяснять формы, которые принимает искусство того или иного художника, с помощью психологического подхода. Это вполне оправдано, это современно. Если же мы интересуемся тем, как мыслили об отражении их душевного склада в живописи Тициан, Микеланджело или Леонардо, психологический подход анахроничен, его следует всячески избегать. Ошибочная постановка проблемы не даст качественных результатов.
Скажу, наконец, о классовой борьбе. Представление, будто до XIX века в живописи отражалась классовая борьба, — мечтательная утопия. Не могу не вспомнить книгу Арнольда Хаузера[2] «Социальная история искусства». Блестящая книга, плод незаурядного ума и эрудиции — но при этом она практически целиком, от корки до корки, бьет мимо цели. Автор вообразил, что XV век был временем классовой борьбы и что Мазаччо олицетворял наступательный дух буржуазии в ее отношениях с церковью. Увы! Мазаччо получал заказы от кардинала… Удивительно, какими серьезными недоразумениями оборачивается желание ученого показать, что он завладел ключом к истине.
Конечно, подобных анахронизмов нужно избегать, но скажу еще раз: анахронизм — неотъемлемая составляющая отношения историка к его предмету. Я не говорю об истории современности. Это очень интересная область, но тот, кто не занимается современностью, неизбежно впадает в анахронизм, причем историк искусства — чаще других, так как предметы, которые он изучает, конкретны, материальны. Предмет, изучаемый историком искусства, будь то картина или скульптура, сам по себе анахроничен. Что я имею в виду? То, что предмет искусства всегда смешивает времена, — а это и есть анахронизм.
Любое произведение искусства, хоть сколько-нибудь просуществовавшее в мире, — то есть большинство таких произведений, — смешивает как минимум три времени. Начну с нашего времени, исходя из того, что произведение сохраняется до сих пор. (Можно исследовать историю утраченных произведений; некоторые специалисты этим с удовольствием занимаются, используя, в числе прочего, литературные описания пропажи. Занятие очень увлекательное, но здесь меня интересует другое.) Одно из трех времен, к которым принадлежит произведение искусства, — время, в котором оно пребывает сейчас, делающее его моим современником. Как мы убедимся, это немаловажно, потому что впечатление, производимое картиной, зависит от ее физических параметров. Например, миниатюрная, 30 на 17 сантиметров, картина Ватто «Суд Париса» действует на меня не так, как громадный, 3,5 на 2,5 метра, «Суд Париса» Рубенса. Материальное присутствие произведения в настоящем времени самым существенным образом влияет на исходное отношение историка искусства к предмету исследования.

Еще одно время произведения — это, напротив, время его создания. Произведение было создано в определенный момент прошлого и уже тогда — скажем, в XVII веке — смешивало разные времена. Согласно точной формулировке Фосийона[3], в лучших произведениях искусства всегда, наслаиваясь друг на друга и переплетаясь, присутствуют разные режимы времени, смешиваются как «опережающие», так и «отстающие» элементы. Франкастель очень хорошо выразил ту же мысль применительно к итальянским художникам XV века: они принадлежат к двум системам и, как следствие, смешивают в своих вещах систему прошлого и систему настоящего, которое движется в будущее. Эти произведения уже в момент своего создания могут соединять разные времена, сами по себе порождая анахронизм. В истории искусства представление о чистом линейном времени не имеет смысла.
Наконец, время, которое нельзя упускать из вида, — то, что отделяет прошлое от настоящего, например между XV и XX веками. Оно также воздействует на нас, включаясь в состав произведения двойным образом. Прежде всего — материально, поскольку картина несет на себе физическую печать, оставленную промежутком между моментами ее создания и сегодняшнего восприятия, — кракелюры, пресловутую патину, слои лака, следы повреждений, разрезы и т. п. Но это не все. Промежуток, о котором мы говорим, содержит нечто гораздо более важное и интригующее: не слишком заметное, скрытое и, возможно, даже пагубное. Я имею в виду время интеллектуального восприятия картины, лежащее между прошлым и настоящим, а также тот факт, что эту картину на стене музея или выставочного зала — хотя бы я и смотрел на нее в первый раз — я, в сущности, вижу не совсем в первый раз, не совсем свежими глазами. Даже если я не принадлежу к числу образованных зрителей, я так или иначе сознаю, что на ней — я ведь слышал, как ее обсуждали, — уже лежат напластовавшиеся взгляды других людей. И эти взгляды, отложившиеся на произведении в течение двух, трех, четырех веков, участвуют в формировании и структурировании моего собственного взгляда.
Приведу два примера. Первый — «Джоконда» Леонардо да Винчи. Сегодня любой человек европейской, западной культуры, включая тех, кто ни разу в жизни не видел «Джоконды», говорит себе, едва войдя в музейный зал, где она висит: «Да, таинственная картина». Но представление о таинственности «Джоконды» восходит к началу XIX века, когда авторство картины «Голова Медузы» из галереи Уффици было по досадной ошибке приписано Леонардо да Винчи (на самом деле она была создана одним фламандским художником XVII века). Вследствие этой ложной атрибуции «Медузу» объявили оборотной стороной «Джоконды» — с тех пор последняя и приобрела репутацию таинственной, поскольку ее стали воспринимать как монстра. Сквозь чарующую улыбку проступала голова Медузы. С тех пор, к нашему великому счастью, мы получили возможность самыми разными способами интерпретировать «Джоконду». И все же любой человек, оказываясь перед этой картиной, говорит себе, что она загадочная, что в ней есть какая-то тайна, — на мой же взгляд, загадочно то, что в Джоконде умудрились видеть Медузу!

Еще один пример, который меня в настоящий момент очень интересует, — это Боттичелли. В истории итальянской живописи XV века Боттичелли принадлежит к числу культовых фигур. Многие, если не вообще все, составляют мнение об этом художнике заранее, даже не увидев ни одной его картины собственными глазами. Считается, что живопись Боттичелли очаровательна, воздушна, исполнена чувственности, легкости, поэзии и т. п. Проблема в том, что этот образ Боттичелли совсем не похож на то, как его воспринимали в XV веке. К счастью, мы располагаем текстом, в котором описываются четыре выдающихся художника, живших во Флоренции в 1493 году: Перуджино, Филиппино Липпи, Боттичелли и еще один, сейчас не помню[4]. И что же? Оказывается, в конце XV века в живописи Боттичелли видели отнюдь не легкость, не чувственность, не эротичность, не изысканность, но атмосферу мужественности, aria virile! Боттичелли — мужественный? Сегодня мы исходим из прямо противоположной оценки. Напомню, однако, что между тогдашним Боттичелли и нашим Боттичелли лежат четыре века забвения. В начале XVII века сами тосканцы не причисляли Боттичелли к наиболее видным художникам: его картины разрешалось вывозить за пределы Тосканы, в то время как вывоз картин Филиппино Липпи был запрещен (великий герцог Тосканский считал Филиппино Липпи более значительным художником, намного превосходящим Боттичелли). На протяжении четырех веков Боттичелли был забыт, потом его заново открыли символисты и прерафаэлиты. Наши безотчетные представления о Боттичелли — дань символистам или прерафаэлитам.
В этом случае мы имеем дело с очень интересной гранью истории искусства — c тем, что иногда называют оценкой критики. Но оценка критики слишком сильно обусловлена текстами: комментариями, высказываниями о художниках и т. п. Один из самых увлекательных аспектов работы историка искусства, включая и учет анахронизмов, — осмысление того, что анахроничным образом структурирует мой взгляд, причем не только сегодня, но и под влиянием истории, периода, отделяющего время, когда было создано произведение, — время No 1, со всеми смешениями времен, какие оно может порождать, — от времени No 3, когда я это произведение воспринимаю. Между ними, на протяжении времени No 2, происходит много перемен в интеллектуальной сфере — то, что можно назвать историей взгляда. Думаю, историки искусства должны наряду с прочим заниматься также историей взгляда, описывающей все практики, которые были обусловлены восприятием произведения. Ведь взгляд на произведение искусства непосредственным образом его затрагивает — доказательством может служить тот факт, что картины обрезали, переписывали, сжигали и т. п. Произведения могут затрагивать взгляд, но и взгляд может затрагивать произведения.
Этот род анахронизма особенно интересен: он дает историку право не только ставить вопрос об анахронизме, но и определенным образом выбирать собственную позицию по отношению к анахронизму самого произведения. Анахронизм — это анахронизм историка, но вместе с тем и анахронизм произведения, смешивающего разные времена и промежутки времени.
Примечания
- ^ Джованни Паоло Ломаццо (1538–1592) — итальянский художник, писатель и теоретик искусства.
- ^ Арнольд Хаузер (1892–1978) — венгерский и английский философ, социолог и историк искусства. Его главный труд: Hauser A. Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, 2 vol. Munich: Ch. H. Beck, 1951–1953.
- ^ Анри Фосийон (1881–1943) — французский историк и теоретик искусства.
- ^ Доменико Гирландайо. Анонимный текст, упоминаемый Арассом, был обнаружен в 1897 году в Миланском государственном архиве.




