Александра Новоженова. Коробка с карандашами: тексты, рисунки, дизайн
В издательстве V–A–C Press выходит собрание сочинений искусствоведа и художественного критика Александры Новоженовой, ушедшей из жизни два года назад. Над книгой работала редколлегия, в которую вошли Оля Шпилько, Арсений Жиляев (участник организации «Российское социалистическое движение» — РСД, признанное иноагентом Минюстом РФ), Валентин Дьяконов и Глеб Напреенко. Частью издания стали не только тексты Александры, но и дизайнерские и художественные работы, ранее не публиковавшиеся. С любезного разрешения издательства публикуем текст одного из предисловий — «Ошибка в цепи», написанный Глебом Напреенко.
 Роберт Смитсон. Спиральная дамба. 1970. Ленд-арт. Большое Соленое озеро, США. Фото: Nancy Holt. Courtesy Dia Art Foundation, New York. Источник: slugmag.com
Роберт Смитсон. Спиральная дамба. 1970. Ленд-арт. Большое Соленое озеро, США. Фото: Nancy Holt. Courtesy Dia Art Foundation, New York. Источник: slugmag.com
Саша Новоженова признавалась, что канвой для ее статьи «Витальность, стабильность, умирание» стал маршрут, прочерченный огненной лисой браузера Firefox, — цепочка запросов и находок в интернете. То есть этот текст можно было бы назвать метонимичным в якобсоновском смысле слова[1] — если бы не постоянно возобновляемая в нем при переходе от одного упоминаемого факта к другому риторика разграничения, различения, повторяющееся «не», которое и обеспечивает смысловое движение статьи, придавая ей иную, не метонимическую связность.
Перечитывая сейчас Сашины тексты, я поразился отчетливости, с которой в них звучит то, чего я раньше так ясно не замечал: вопрос о важности отделения[2], о его возможных версиях и о последствиях его срывов; того отделения, того зазора, которое могут поддерживать кавычки, край сцены, рама картины, зарезервированная пустота, выдержанная пауза, но также — речь; отделения фантазии от реальности, всамделишного — от условного, диалектизируемого — от противящегося диалектике, высказанного — от акта высказывания, человеческого субъекта — от его атрибутов и репрезентаций, в том числе политических; или даже отделения разных способов представить, редуцировать одно и то же: например, трехмерное пространство к двумерному. Так как требующие отделения регистры часто примыкают друг к другу или даже сосуществуют как разные версии прочтения или восприятия одного и того же (высказывания, поступка, произведения), неизбежно возникает вероятность их столкновения в противоречии — и тогда способность суждения испытывает замешательство; либо же риск спайки, неразличения — и тогда возникает безумная в своей тотальности система прочтения. Возникает, например, нацистская критика «дегенеративного искусства», которую Саша разбирала в статье «Смех в зале» и которая рассматривала деформации тела в модернистских произведениях в одном регистре с анатомическими уродствами.

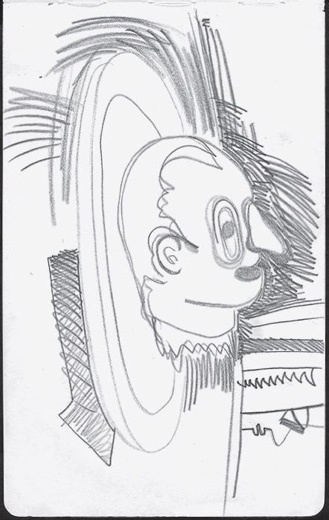
Лишь благодаря взаимодействию отделяемых регистров оказывается возможным помыслить социальную связь и совершить поступок: необходимо выставить произведение, разыграть спектакль, оказаться как-то представленным в политическом пространстве — хотя бы поставить свою подпись. Но чтобы эти акты не были проявлениями безумия, субъекту необходимо себя от них отделять, не полностью с ними совпадать — не полностью сводиться к тому, что предъявлено Другому.
Эта несводимость может быть способом представить жизнь — как противоположность смерти. И если система прочтения стремится к тотальности, то по отношению к ней тот зазор, та манифестация ее не-тотальности, в форме которого представлено живое, может мыслиться как сбой, как ошибка. Но именно избавление от такой ошибки может стать настоящей ошибкой — стать убийственным. Роберт Смитсон, герой текста «Витальность, стабильность, умирание», погиб, когда искал место для своего нового произведения, поскольку его самолет буквально потерял дистанцию между собой и землей — врезавшись в нее. Но именно разрыв между тем, как геометрично его лэнд-арт выглядит с небес и каково его бытование в энтропии природного ландшафта, о взгляде свысока не ведающем, находился в сердцевине искусства Смитсона.
Угрозе полноты Другого, которая готова включить в себя все, угрозе тотальной системы прочтения, где невозможна ошибка, Саша противилась — и одновременно была заворожена ею. Например, так Саша характеризовала сегодняшнюю систему самовоспроизводящихся арт-институций или, шире, сам капитализм; но она искала им альтернативы, находя системы псевдототальные, ограничивающие свой универсализм или уже фактически провалившие его — например, в истории СССР это дисциплина научной организации труда или проект истинного социалистического реализма. Но в советской истории была сталинская мобилизация, где непроизводительная ошибка должна была быть устранена — а в пределе каралась смертью. Как разместиться по отношению к такой системе? Пусть цифры плана мобилизуют ваш труд — но как оставить их вхождение в вашу плоть лишь метафорой? Или же оно должно стать чем-то большим?


«Лучшие и прекраснейшие вещи — это те, которые движутся или служат для движения других». Но живому необходимо также то, что не определялось бы хорошим и красивым; нужно найти что-то, что могло бы быть альтернативой цепи метонимий — альтернативой ряду линейных передач энергии, капитала, смыслов, элементы которого сопряжены, подобно членам последовательности натуральных чисел, разворачивающейся по одной оси; найти, с одной стороны, двусмысленность, сгущение, вторую, метафорическую ось; с другой — убежище от смыслов, от обмена и от капиталовложений, утечку энергии, заповедник. Найти иную связность — но также и разрыв связи. Кажется, именно этого искала Саша в работах, написанных ею в Северо-Западном университете Чикаго. В статье «Социализм — НОТ — Американизм» ошибка, парадокс, «время на поцелуи», зазор между ресурсами тела и экономической системой, из которого возникает прибавочная стоимость, присутствуют как нечто нередуцируемое, упорно сопротивляющееся включению в обмен. Вскоре после завершения этого текста Саша говорила, что хотела бы написать книгу эссе о роли ошибок в (советском?) искусстве.
Однако последняя Сашина работа, написанная в университете, — «2 + 2 = 5. Арифметика мобилизации» — развивает все-таки движение к тотальности диалектики, к установлению связности: например, между трудовыми, энергетическими ресурсами тела и показателями пятилетнего плана. И единственным местом для живого — в том числе для сексуального — тут становится уже не ошибка, а уплотнение внутри системы. То уплотнение, что привносит вторая ось, помимо оси натурального ряда, — но это уже не ось метафоры против оси метонимии: теперь вторая ось исчислима, как и первая. Полученная прибавка возвращена в общий производственный цикл, идеал нашел воплощение, энтузиазм оказался посчитан. Пересказывая в конце этой статьи текст Бориса Арватова «Поправка на самоубийство Маяковского», Саша упоминает, что Арватов полагал: Маяковского погубил избыток эротической энергии, которую тот не сумел применить в утилитарном искусстве. Решением, которое, как казалось Арватову, способно было предотвратить гибель поэта, было совместить социальную и художественную реальность — что, как он надеется, станет возможно в социалистическом будущем. Тут хочется поспорить: именно окончательное преодоление границ фантазии и политэкономии может оказаться губительным, поскольку не оставляет места бессмыслице.
Вопрос о месте живого по отношению к системе языка — это еще и вопрос о женственности. Как помыслить половое различие в качестве социального факта? И как, с другой стороны, помыслить женское не в качестве антитезы мужскому и не в связи с ним, а как таковое? Именно ответ на второй вопрос предполагает нечто, не включаемое в систему обмена, и тем самым ставит проблему отделения — отделения, которое ищет быть записанным: приходится как-то зарубить его себе на носу.




