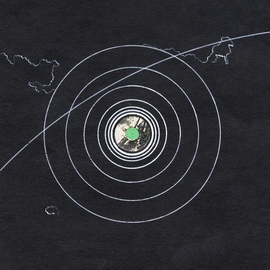Дэвид Джоcлит. Живопись вне себя
В пятницу, 11 октября 2019 года, в Музее современного искусства «Гараж» с публичной лекцией выступит Дэвид Джослит — историк искусства и один из авторов книги «Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм». Он проанализирует произведения модернизма и послевоенного искусства и объяснит, каким образом живописный акт позволяет выстраивать альтернативные, не-евроцентричные нарративы. В этой связи «Артгид» публикует эссе Джослита «Живопись вне себя», впервые напечатанное в журнале October в 2009 году и недавно вышедшее на русском языке благодаря редакции «Художественного журнала».
 Энди Уорхол. Сандро Боттичелли, Рождение Венеры. 1984. Шелкография, акрил. Музей Уорхола, Питтсбург
Энди Уорхол. Сандро Боттичелли, Рождение Венеры. 1984. Шелкография, акрил. Музей Уорхола, Питтсбург
С характерной изощренностью переплетая живопись с макаронами, Мартин Киппенбергер в интервью 1990–1991 годов обозначил наиболее важную проблему при работе с холстом со времен Уорхола: «Нельзя просто повесить картину на стену и назвать это искусством. Важна вся сеть целиком! Даже спагеттини… Только произнесите “искусство” — и ему принадлежит все что угодно. Внутри галереи ведь есть еще архитектура, пол, цвет стен»[1]. Если верить Киппенбергеру на слово, то встает вопрос: Каким образом живопись принадлежит сети? С конца двадцатого века, вместе с повсеместным распространением цифровых сетей, его значимость возросла, встав в ряд модернистских вопросов вроде: Как живопись означивает в семиотических апориях кубизма или в беспредметных утопиях исторических авангардов? Каким способом статус живописи как материи может быть конкретно выражен (например, внедрением реди-мейдов, развитием монохрома и сериальности, а также жестикулярными техниками дриппинга, разливки, пятнистого окрашивания)? И как живопись может преодолеть вызов механического воспроизводства (как в стратегиях присвоения, простирающихся от шелкографии поп-арта в 1960-е до возврата к живописи поколения картинок в 1980-е)? Ни одна из этих проблем не существует обособленно от прочих и не исчезает со временем — они переформулируются через новые вопросы, которые смещают акценты.
Несомненно, живопись всегда принадлежала сетям распространения и экспонирования, но Киппенбергер притязает на нечто сверх этого. А именно, что в начале 1990-х отдельной картине надлежит дать наглядное представление этим сетям. И действительно, ассистенты и близкие товарищи Киппенбергера (кто-то их назовет соавторами) — такие как Михаэль Креббер, Мерлин Карпентер и интервьюировавшая его в 1990–1991 Юта Кетер — развили практики, в которых живопись сшивает виртуальный мир образов и реальную сетку человеческих деятелей, при этом не позволяя ни одному из двух аспектов заслонить другой. На выставке Кетер «Lux Interior» в 2009 году в галерее Рины Сполингз в Нью-Йорке, к примеру, живопись функционировала как средоточие перформанса, инсталляции и окрашенного холста. Центром выставки была работа, расположенная на приподнятой под углом стене, — сродни экрану, две стойки которой, по словам Кетер, находились по разные стороны кромки платформы, ограничивавшей выставочную зону галереи, так что стена была будто поймана в момент выхода на сцену[2]. Этот эффект был усилен направленным на картину лучом света от винтажного светильника, — трофея из знаменитого гей-клуба «Святой», закрытого в 1988 году из-за эпидемии СПИДа. Само полотно — «Горячий электрод (после Пуссена)» — это переработка почти в монохром «Пейзажа с Пирамом и Фисбой» (1651) Пуссена, представляющего римский миф, в центре которого история любви, закончившаяся трагически из-за ошибочного толкования видимых сигналов (Пирам, увидев разорванный платок Фисбы, решает, что она была погублена львицей, что ведет к его самоубийству, а затем, по обнаружении Фисбой его мертвым, и к ее самоубийству). Картина выдержана преимущественно в красных тонах — цветах крови и ярости (и, следовательно, СПИДа).

В ее фокусе увеличенный мотив — огромная молния, игравшая намного менее выраженную роль у Пуссена. Эта остроугольная форма разрезает композицию словно шрам, вокруг которого сгущаются мазки кисти. Следы эти — то робкие, то решительные — нечто вроде ласки перед шлепком. Вдохновившись тщательным анализом Пуссена в книге Т. Дж. Кларка «Видение смерти» (2006), Кетер выстраивает глубоко неоднозначный жест, соединяющий в себе в равной степени самоутверждение и рефлексию. В ее мазках истощен выразительный позыв — художница отмеряет время, прошедшее с пуссеновского 1651 до собственного 2009[3]. Три лекции-перформанса дополнили выставку. В них Кетер перемещалась вокруг стены, к которой прикреплено полотно, и даже под ней. Ее тело и сверкающая, гневная декламация коллажированного текста обрамляли холст. Присутствие картины как действующего лица — или собеседника — было усилено проблесковыми лампами, мигавшими на картину в различных конфигурациях во время этих живых событий: картина и автор словно повстречали друг друга в клубе[4].
Выставка «Lux Interior» представляет собой продуманный ответ на вопрос, с которого я начал: каким образом живопись принадлежит сети? Стоит призадуматься над тем, как непросто дать наглядное представление сетям, которые с их непостижимым масштабом от неправдоподобно крошечных микроcхем до невероятно обширного, всемирного интернета, поистине воплощают собой современное возвышенное. Стоит только загуглить «карты интернета», чтобы получить вдохновленные Стар Треком изображения взаимосвязанных солнечных систем. Вместо того чтобы способствовать пониманию потока информации, они, скорее, связывают цифровые миры с древней традицией созерцания звезд. Кетер подходит к проблеме иначе. Вместо того чтобы дать наглядное представление общим контурам сети, она воплощает в действии логику поведения объектов внутри сетей путем демонстрации того, что я бы назвал их переходностью. Оксфордский словарь английского языка дает одно из определений «переходному» (transitive) как «выражающему действие, которое направлено на объект».
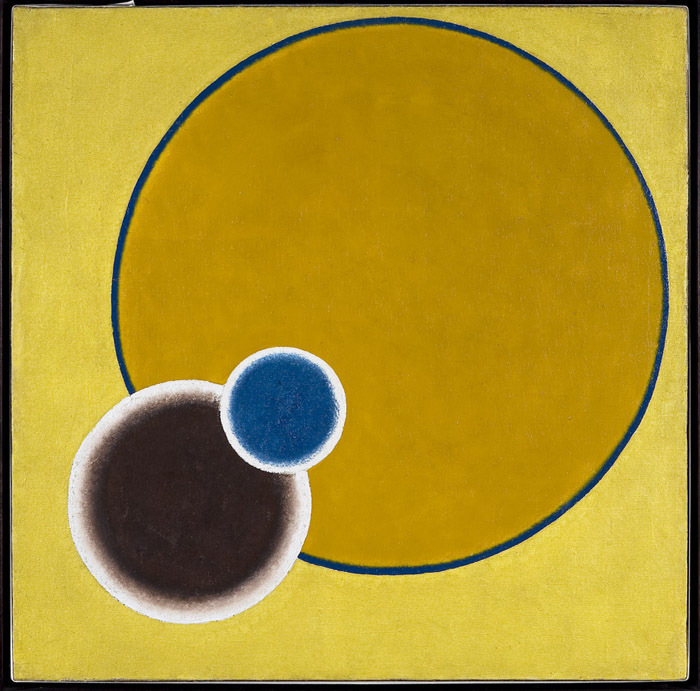
Я затрудняюсь подобрать более подходящий термин для передачи статуса объектов в структуре сетей — которые характеризуются обращением с места на место и последующим переводом в новые среды — нежели понятие перехода[5]. В «Lux Interior» Кетер учредила эту переходность вдоль двух осей. Во-первых, каждый мазок ее воспроизводства «Пейзажа с Пирамом и Фисбой» Пуссена овеществляет ход времени. К этой диахронной оси живописи-как-медиума примыкает второй, синхронный тип перехода, который сменяет позицию живописи в качестве предмета материальной культуры, приближая ее к окружающим общественным сетям. Это отмечено: во-первых, функцией «Горячего электрода» как действующего лица (его «вступление» на сцену, подсветка дискотечными лампами и т. д.), во-вторых — перформансом художницы в качестве речевого и телесного собеседника картины во время трех лекций.
Что характеризует переходную живопись, в рамках которой Кетер представляет лишь одно из «настроений», так это ее способность приостанавливать и переходы, присущие полотну изнутри, и переходы, внешние ему. В этом смысле со времен 1990-х живопись вобрала в себя так называемую «институциональную критику», не попав при этом в модернистскую ловушку отрицания, в которой произведения на холсте систематически сокращались до нулевой степени, оставаясь в то же время единичными объектами для созерцания и рыночной спекуляции. Стивен Прина с его более отстраненным взглядом занимает относительно молодых художников — вроде Чейни Томпсона, Уэйда Гайтона, Ребекки Х. Квейтман — позицию, аналогичную Киппенбергеру. В 1988 году он начал продолжающийся проект «Изысканный труп: полное собрание картин Мане», в котором литография, представляющая изобразительный каталог творчества Эдуарда Мане в 556 работ (решетка из «пробелов» классифицирована и масштабирована на основе очертаний и габаритов каждой картины или рисунка), была выставлена по соседству с чередой одноцветных чернильных рисунков в сепии, выполненных Приной согласно точным измерениям и форматам соответствующих произведений Мане. Хотя при поверхностном осмотре эти рисунки могут показаться пустыми, Прина настаивает на их положительном изобразительном впечатлении:
«Возможно, они есть наименьший общий множитель выразительности. Поверхности промокнуты губкой с разведенной сепией. Кому-то они кажутся холостыми или пустыми образами. Они тонки, но не пусты. В каком-то смысле они полны настолько, насколько возможно. Они окрашены от края до края. Каждый квадратный дюйм был распределен, намечен и заполнен. Очевидно, что они выполнены вручную…»[6].

Если для Кетер «живопись» работает как узловая точка перформанса, инсталляции и фигуративного стиля жестикулярного воспроизводства на холсте, то для Прины «живопись» означает пересечение корпуса работ художника (как перечня или наследия трудов), формата объекта (его размеров и контура) и беспредметного стиля воспроизводства на бумаге[7]. Таким образом «Изысканный труп» существенно отличается от «Lux Interior», но они преследуют одну задачу — дать наглядное представление переходному смещению действия от картины к общественной сети (или телу), а от этой сети назад к картине. Как заявляет Прина: «Я назвал проект о Мане “Изысканным трупом”, потому что мне казалось необходимым увидеть полный корпус работ, соотнести его тело и мое тело…»[8].
По нескольким недавним выставкам можно предположить, что переходная живопись насыщенна и разнообразна. Чейни Томпсон на персональной выставке «Хромахромы Робера Макера» в галерее Эндрю Крепса в 2009 представил перечень форматов картин (т. е. двустворчатый, поперечный или тондо), каждый из которых заключал пространство, оптически сплошь покрытое увеличенным узором льняного плетения, на котором он был нарисован вручную с использованием пар дополнительных цветов. На выставке Уэйда Гайтона у Фридриха Петцеля в 2007 компьютерный реди-мейд — а именно прямоугольник, нарисованный и заполненный в фотошопе — послужил источником для серии черных монохромных картин, сгенерированных струйным принтером. Гайтон настелил в галерее временный черный пол, чья нелепая краткосрочность намекала зрителю на некоторую телесную самодельность цифровой эстетики, прораставшую через стопы словно при ощущении напольного произведения новоявленного Карла Андре[9]. Что касается вклада Ребекки Х. Квейтман в совместную выставку с Реей Анастас и Эми Силман, «От одной “О” к другой» в галерее Орчард, то она выставила картины, чьи мотивы были заимствованы из фотографий самого галерейного пространства, располагавшегося в Нижнем Ист-Сайде. Поверх них в технике шелкографии были напечатаны оптически агрессивные узоры, из-за чего было нелегко сконцентрироваться на заслоненных мотивах. Картины Квейтман были организованы по разделам и архивированы в хранилище, доступном для зрителей[10]. На всех трех выставках риторика модернистской живописи (сплошное поле, монохром и оптическая иллюзия) служила для сшивания обозревателя с лежащей вне восприятия общественной сетью, нежели попросту помещала их в феноменологическую ситуацию единоличного восприятия — как это дело описывала бы ортодоксальная модернистская критика. У Томпсона оптическое ощущение было сопряжено с историей конвенциональных живописных форматов; у Гайтона оно привязано к изменчивости цифровой информации; у Квейтман — отсылает к этически непростому наследию джентрификации художниками и галереями нью-йоркского района Нижний Ист-Сайд.

Эти переходные практики получили распространение по той причине, что предлагают способ выйти из чрезвычайно затяжного критического тупика: ловушки овеществления. Как самый притягательный предмет коллекционирования, в котором совокуплены максимальный престиж и максимальное удобство экспонирования (как для частных, так и для институциональных собраний), живопись — это медиум, чаще всего осуждаемый за его близкие отношения с товаризацией. Бесспорно, это — точный диагноз, но столь же верно и то, что выплата художнику (или искусствоведу, коли на то пошло) гонорара за услуги в виде лекции, перформанса или временной инсталляции — сделка не в меньшей степени ведущая к товаризации, нежели продажа картины — даже если меньше денег проходит по рукам. Проблема понятия «овеществление» в том, что оно подразумевает безвозвратное сковывание обращения объекта в сети: он приостановлен, оплачен, повешен на стену, отослан в хранилище и, таким образом, навечно конкретизирует в себе определенное общественное отношение. Переходная живопись, напротив, изобретает формы и структуры, чья задача — продемонстрировать, что, как только объект вступает в сеть, его уже никогда полностью не остановить. Его можно лишь подвергнуть различным материальным режимам и скоростям обращения от медленной геологической (холодильное хранение) до бесконечно ускоренной. Полотно Пуссена может попасть к Юте Кетер, а Стивен Прина завладеть полным собранием работ Мане.
Я писал ранее о дадаистских чертежах, особенно о работах Франсиса Пикабиа, доказывая, что они блокируют изображение стабильных объектов и, следовательно, пробивают застой овеществления[11]. В самом деле, если мы вспомним определение переходности, что я дал выше — как «выражающее действие, которое направлено на объект», — мы можем предвосхитить близкую связь между переходным и чертежным, так как чертежи полностью посвящены переходу от одного элемента к другому. И вправду, недавние практики переходной живописи дополнены также использованием черчения. Возьмем навскидку два примера из множества возможных. В картинах Эми Силман и Томаса Эггерера фигуративный элемент (в случае Силман чаще всего это рисунок рукой, а Эггерера — фотографический фрагмент из журнала или книги) погружен в поле жестикулярных векторов. В игривом ли, в отчаянном ли расположении духа, фигурация частично поглощается чистым переходом. Фигуративный элемент выступает то тут, то там, только чтобы напомнить нам о масштабности тех процедур абстракции, характерных и для перевода цифровыми сетями предметов материальной культуры в шифр. Переходность — это форма перевода: вступая в сети, тело живописи подвергается бесконечным смещениям, дроблениям и распадам. Как говорил Киппенбергер почти двадцать лет назад, от этих обрамляющих обстоятельств нельзя отгородиться. Живопись — вне себя.
Примечания
- ^ «One Has to Be Able to Take It!», фрагменты интервью Юты Кетер с Мартином Киппенбергером (ноябрь 1990–май 1991) // Goldstein A. (ed.) Martin Kippenberger: The Problem Perspective. Los Angeles and Cambridge: The Museum of Contemporary Art and The MIT Press, 2008. P. 316.
- ^ Пресс-релиз выставки описывает картину так: «Прикрепленная к отдельной стене, с одной стойкой на сцене и с другой вне ее».
- ^ См. Clark T.J. The Sight of Death: An Experiment in Art Writing. New Haven: Yale University Press, 2006.
- ^ Музыка служит существенным измерением практики Кетер как художницы. «Lux Interior», например, названа в честь солиста панк-группы The Cramps. Их стихи включены в составленный Кетер архив различных «первоисточников», который сопровождал выставку.
- ^ Учитывая увлеченность Марселя Дюшана переходом в рамках живописи не только в таких работах как «Переход из девственниц в новобрачные» (1912), но и в «Большом стекле» (1915–1923), а также в скитаниях реди-мейдов на протяжении их «жизней», здесь стоит признать значение живописи дадаизма для того современного развития, которое я очерчиваю. Будь это влияние прямым или нет (а я несколько сомневаюсь в первом), и дадаистские, и так называемые неодадаистские художники выясняли, как живопись может охватывать внешние ей сетевые отношения. См., например, Baker G. The Artwork Caught by the Tail: Francis Picabia and Dada in Paris. Cambridge: The MIT Press, 2007, особенно главу 2, «The Artwork Caught by the Tail: Dada Painting»; и Joseph B. Random Order: Robert Rauschenberg and the Neo-Avant-Garde. Cambridge: The MIT Press, 2003. Несомненно, Тьерри де Дюв сделал значительный вклад в понимание взаимоотношения между живописью и реди-мейдом у Дюшана. Эти идеи собраны в Kant After Duchamp. Cambridge: The MIT Press, 1996. В своей книге Infinite Regress: Marcel Duchamp 1910–1941. Cambridge: MIT Press, 1998, я берусь за вопрос живописи Дюшана иначе.
- ^ Sussman E., Joselit D. Stephen Prina // Ross D., Harten J. (eds.) The BiNational: American Art of the Late ‘80s. Boston and Cologne: The Institute of Contemporary Art and Museum of Fine Arts, DuMont Buchverlag, 1988. P. 158.
- ^ Прина работал над схожим проектом под названием «Монохромная живопись» в 1988–1989. Произведение включало созданные им «реконструкции» форматов монохромных картин, заимствованные у различных важных художников двадцатого века и расположенных как крестные стояния (в дань Барнетту Ньюману).
- ^ Sussman E., Joselit D. Stephen Prina. P. 157.
- ^ См. превосходное описание творчества Гайтона, Burton J. Rites of Silence: On the Art of Wade Guyton // Artforum vol. 46 no.10 (Summer 2008). P. 364–373, 464.
- ^ Я дал более полный комментарий произведению Квейтман в эссе Institutional Responsibility: The Short Life of Orchard // Grey Room 35 (Spring 2009). P. 108–115.
- ^ См. мои «Dada’s Diagrams» в Dickerman L., Witkovsky M. (eds.) The Dada Seminars. Washington and New York: The National Gallery of Art and D.A.P., 2005. P. 221–239. Бенджамин Х. Д. Бухло развивает более строгое понимание черчения в Hesse’s Endgame: Facing the Diagram // de Zegher C. (ed.) Eva Hesse Drawing. New York and New Haven: The Drawing Center and Yale University Press, 2006. P. 117–150.