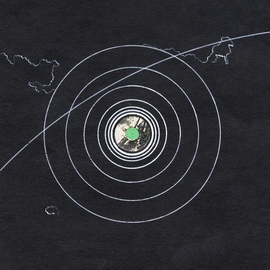Рассказ очевидца о том, как был закрыт Музей нового западного искусства
Разговоры о воссоздании Государственного музея нового западного искусства (ГМНЗИ), ликвидированного в 1948 году, не утихают. «Артгид» решил напомнить, каким образом музей закрывался и как знаменитые коллекции Сергея Щукина и Ивана Морозова, входившие в состав ГМНЗИ, делились между ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственным Эрмитажем. Мы приводим статью из журнала «Декоративное искусство СССР» (1988, № 7). Ее автор — искусствовед Нина Викторовна Яворская (1902–1992), работавшая в ГМНЗИ с 1923 года вплоть до его закрытия и входившая в «ликвидационную комиссию» музея.
 Красноармейцы на экскурсии в зале Матисса в ГМНЗИ. 1937. Courtesy ГМИИ им. А.С. Пушкина
Красноармейцы на экскурсии в зале Матисса в ГМНЗИ. 1937. Courtesy ГМИИ им. А.С. Пушкина
После Октября коллекции С.И. Щукина и И.А. Морозова были национализированы. В декрете, подписанном В.И. Лениным, эти собрания были высоко оценены. Казалось бы, уже одно это должно было гарантировать их полную неприкосновенность и сохранность.
Однако в действительности было не так. Уже с первых лет существования Государственного музея нового западного искусства (вначале состоящего из двух отделений — I, Щукинского, и II, Морозовского) производились постоянные поползновения на целостность коллекции. Удивляет, что важность сохранения неприкосновенности Музея не понимали даже такие художники, как, например, В. Кандинский и Р. Фальк. Из дневника директора Музея Б. Терновца известно, что они полагали возможным изъять для организуемого в начале 1920-х годов Института художественной культуры ряд очень нужных и характерных для целостности коллекции произведений. Этим попыткам воспрепятствовал музейный отдел Наркомпроса. Но и в дальнейшем неприкосновенность собраний все время оказывалась под угрозой по тем или иным причинам; чаще всего посягали на одно из зданий, в которых размещались отделения Музея.
В 1928 году отстоять оба помещения, занимаемых Музеем (особняк С.И. Щукина на Знаменке, где размещалось его I отделение, и дом И.А. Морозова на Пречистенке — место расположения II отделения), оказалось уже невозможным. Административно оба отделения уже были объединены. Размещение обеих коллекций в одном помещении давало даже некоторые преимущества, так как возникала возможность исторически объективного показа развития западноевропейского (особенно французского) искусства, тогда как до тех пор, несмотря на значительный рост коллекций, они все же в основном отражали вкусы собирателей — Щукина и Морозова.

После объединения Музей превратился в такое первоклассное собрание западного искусства конца XIX — начала XX века, которым не обладало в те времена ни одно государство Западной Европы, да и США. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы зарубежных деятелей культуры, среди которых в первую очередь надо назвать Ромена Роллана.
И, однако, нападки на Музей продолжались. Особенно резкими они стали к концу 30-х годов. Теперь вопрос стоял уже не о посягательстве того или иного государственного учреждения на помещение. Речь заходила уже о том, что представленное в Музее искусство вредно показывать советским людям. Все искусство, начиная с импрессионистов, объявлялось формалистическим. Проводником подобных взглядов, навязываемых в качестве государственной политики, была группа лиц во главе с Александром Герасимовым.
В обстановке постоянных нападок руководство Музея выступило с идеей частичной реорганизации, хронологического расширения коллекций и создания музея западного искусства XIX–XX веков, где было бы представлено развитие искусства, начиная с классицизма. Для этого было бы необходимо передать в ГМНЗИ соответствующую часть собрания ГМИИ. Однако Музей изобразительных искусств не поддержал этого проекта.
1 января 1938 года директор ГМНЗИ Б.Н. Терновец, занимавший этот пост более 15 лет, был внезапно уволен с должности. Причем сделано было это крайне бестактно. До того он не раз обращался с просьбой освободить его от руководства по болезни, но всякий раз получал отказ. Теперь же он узнал о своем освобождении из газет, хотя буквально накануне, будучи у руководящего сотрудника Комитета по делам искусств А.К. Лебедева, сказал ему о ходящих по Москве слухах о его увольнении. Тот ответил: «Ничего не знаю». Последующие после Терновца, часто меняющиеся директора уже не обладали ни тем авторитетом, ни той настойчивостью в отстаивании музея, которыми обладал Терновец. Помещения музея стали занимать под выставки, не имеющие никакого отношения к его профилю (например, Выставка армянского искусства, экспозиция художественного творчества гуцулов и т. п.).
Наступает война. Коллекция музея эвакуирована. В помещение его (на Кропоткинской) попадают бомбы, пострадал зал Мориса Дени (нынешний Белый зал). Потребовавшийся большой ремонт не позволил сразу разместить экспонаты музея после их реэвакуации, временно они хранились в Музее восточных культур. Когда же музей был отремонтирован и готов к принятию коллекций, его помещение понадобилось для филиала одной из Всесоюзных художественных выставок, который, правда, так и не открылся, хотя экспозиция этой выставки и была принята комиссией.
Нападки на новое западное искусство тем временем все более усиливаются. Встает вопрос об организации Академии художеств, для чего, естественно, потребовалось помещение. Ненависть Александра Герасимова к нашему музею здесь проявилась в полную силу. Им и его единомышленниками был поставлен вопрос о закрытии музея и передаче помещения Академии художеств.
Сотрудники музея попытались организовать общественность в защиту музея. Правда, тогда это сделать было уже очень трудно. Все были запуганы, а многие видные общественные деятели потеряли всякий авторитет.
Дальнейшие события развивались следующим образом. Из Комитета по делам искусства поступил приказ — развернуть немедленно (чуть ли не в одну ночь) экспозицию музея. Приказ был выполнен, хотя такие крупные произведения, как «Музыка» и «Танец» Матисса, не могли быть экспонированы, так как оставались еще на валу после реэвакуации. В музей пришли два референта из Совнаркома Кардашев и Аболимов (за точность фамилий не ручаюсь, последний был позднее директором Большого театра). Директором музея был в то время Яковлев, но он в тот день отлучился в связи с болезнью матери и поручил разговор вести мне как заместителю по научной части. Я же привлекла и других сотрудников музея. Беседовали мы с товарищами из Совнаркома в течение пяти часов, всесторонне осветив деятельность музея и ознакомив с проектом его реорганизации. По окончании беседы я спросила мнение референтов в связи со слухами о возможном закрытии музея, на что они в один голос ответили, что их мнение совпадает с мнением всех культурных людей. В это время вернулся директор музея, которому они подтвердили свое мнение и добавили, что они поражены такой любовью сотрудников к своему делу.
Их заключение нас успокоило, мы полагали, что оно что-то значит. На другой день в музей пришли М. Храпченко, стоявший во главе Комитета по делам искусств, и П.М. Сысоев. Посмотрев экспозицию, вызвали меня и сказали, что завтра приедет К.Е. Ворошилов и чтоб я и не вздумала его агитировать. Меня эти слова очень поразили. Я решила, что их позиция крайне шаткая.
Однако кто-то из начальства догадался, что мы «схитрили» и не показали «рискованных» вещей (сейчас об этом странно писать, когда эти произведения демонстрируются в Эрмитаже). Снова звонок по телефону. А.К. Лебедев приказывает, чтобы к 11 часам завтрашнего дня (то есть к приезду Ворошилова) были сняты с вала и показаны «Музыка» и «Танец» Матисса. Я под разными предлогами пыталась доказать невыполнимость этого требования: для снятия с вала необходимы были реставраторы, которых не было. Однако ничего не помогло. Реставраторов дали, и на полу были разложены оба панно Матисса. Правда, рядом мы положили большое «реалистическое» полотно Жана-Поля Лоранса «Казнь Максимилиана».
Ворошилов приехал вместе с Александром Герасимовым, Сысоевым, А.И. Лебедевым (Поликарпом, который в это время работал в ЦК), А.К. Лебедевым. Не помню, был ли Храпченко (его в этот же день или на следующий сместили с должности Председателя Комитета по делам искусств в связи с разгромом оперы Мурадели и заменили А.И. Лебедевым).
Шла борьба за место около Ворошилова. Референты, с которыми я ранее беседовала, буквально толкали меня продвинуться ближе к нему, а Ал. Герасимов отталкивал. Ему удалось направить Ворошилова на осмотр экспозиции не с ее начала, как нами было задумано, а с конца, подведя его прямо к работам Матисса. Ворошилов посмотрел и издал звук: «Хе, хе», и вся свита подхватила: «хе, хе, хе». Прошло много лет, но хор этих смешков до сих пор стоит в моих ушах. Это меня парализовало, но я все же постаралась обратить внимание и на другие произведения, в частности на Лоранса. Но кто-то из сопровождающих сказал: «Ну, конечно, есть и такие, но в основном не они». Пошли к Ренуару. «Обнаженная» Ворошилову понравилась, но кто-то (кажется, А.И. Лебедев), сделав рукой возле картины Ренуара вращательное движение, сказал: «Но здесь уже начинается, начинается».
Надо сказать, что Ворошилов далеко не ко всем музейным вещам отнесся отрицательно, но А.М. Герасимов давал уничтожающие характеристики. После осмотра я спросила Ворошилова, каково его мнение. Он ничего не ответил.
Вечером в Большом театре был торжественный вечер (не помню уже, по какому поводу). Я была на нем. Увидела среди публики И.М. Майского, который был большим другом нашего музея и не раз помогал ему в 40-х годах. Подойдя к нему, я сказала, какая угроза нависла над нашим музеем, но он грустно ответил: «Я теперь ничего не значу».

Какое-то время длилось неопределенное положение. Мы не свертывали экспозицию и показывали ее друзьям музея (хотя официально музей открыт не был). Количество лиц, художников и искусствоведов, которые хотели посмотреть музей, было огромно. Недавно мне сказал В.Н. Лазарев, что он никогда не забудет, как в те дни вместе с В.Н. Вольской осматривал музей.
Затем был издан приказ о ликвидации музея, подписанный Сталиным (говорили тогда,— но не могу ручаться,— что Молотов отказался подписать). Была создана комиссия по ликвидации, в которую вошла и я.
Музейный отдел Комитета по делам искусств намеревался распылить произведения по разным провинциальным музеям, а некоторые вообще уничтожить. И лишь лучшее передать в Музей изобразительных искусств и в Эрмитаж. Трудно передать то состояние, в котором находились мы, сотрудники музея. Самым большим желанием в этих условиях было, чтобы все произведения попали в Музей изобразительных искусств и Эрмитаж (а не в провинциальные музеи). Я почти что в буквальном смысле молила бога, чтобы приехал И.А. Орбели, директор Эрмитажа, зная, что он не даст распылить коллекцию. Каково же было мое радостное удивление, когда, придя на заседание комиссии в кабинет С.Д. Меркурова (в то время директора ГМИИ), первым, кого я увидела, был Орбели. Я отозвала его и сказала, что умоляю его брать все, что не возьмет ГМИИ. Он ответил, что такие же инструкции получил от А.Н. Изергиной (в то время работавшей в отделе Запада Эрмитажа), которая, услыхав об угрозе нашему музею, заставила Орбели немедленно выехать в Москву.
Наступил дележ произведений. От Музея изобразительных искусств наибольшую активность проявили Б.Р. Виппер и А.Д. Чегодаев. Правда, из-за субъективных особенностей вкуса последнего наиболее острые картины Матисса, а также Пикассо были отвергнуты ГМИИ и в результате оказались в Ленинграде.
Закрытие Музея нового западного искусства явилось большим ущербом для культурной жизни нашей страны. Советский зритель уже не мог видеть стольких шедевров, собранных воедино. Особенно это ясно теперь, когда произведения, подвергавшиеся остракизму, в частности, «Музыка» и «Танец» Матисса, получили всеобщее признание. Приходится быть благодарными музейным работникам Эрмитажа и ГМИИ, которые приложили столько сил, чтобы добиться в свое время экспонирования и пропаганды этих произведений. И здесь надо прежде всего вспомнить добрым словом сотрудницу ГМИИ Татьяну Алексеевну Боровую и Антонину Николаевну Изергину в Эрмитаже, которые смело и с большой эстетической чуткостью трудились над экспонированием работ в своих собраниях.
* * *
По воспоминаниям А.И. Леонова, А.М. Герасимов как-то ему сказал: «Если кто осмелится выставить Пикассо, я его повешу». Эти слова принадлежали первому президенту Академии художеств СССР.
Нина Яворская
Июль 1972 г., Нида