27.03.2014 62465
Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР. М., Новое литературное обозрение, 2014
Пухлый сборник интервью и воспоминаний участников процесса о неофициальном искусстве 1980-х, составленный художником Георгием Кизевальтером.
 Фрагмент обложки книги «Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР». 2014
Фрагмент обложки книги «Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР». 2014
Художник, один из основателей группы «Коллективные действия» Георгий Кизевальтер выпускает второй том своей своеобразной истории российского неофициального искусства, рассказанной через серию интервью и воспоминаний непосредственных участников художественного процесса тех лет. (Первый том, «Эти странные семидесятые, или Потеря невинности», посвященный 1970-м и построенный по тому же принципу подбора свидетельств, увидел свет в 2010 году.) С любезного разрешения издательства «Новое литературное обозрение» мы публикуем фрагмент беседы с Леонидом Бажановым, инициатором и бессменным художественным руководителем Государственного центра современного искусства. В 1980-е Бажанов устраивал у себя дома выставки неофициальных художников, а в 1986 году создал творческое объединение «Эрмитаж», которое занималось организацией выставок современного искусства и в котором впервые в стране отрабатывались многие художественные стратегии и экспозиционные практики.
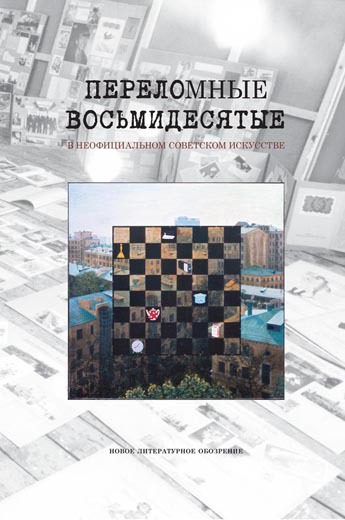
Георгий Кизевальтер: Насколько однородной видится тебе сейчас эпоха 80-х? На какие этапы можно ее разбить?
Леонид Бажанов: Конечно, это была совершенно неоднородная эпоха. Начало 80-х — очень мрачный период. Почти все друзья уехали во второй половине 70-х в эмиграцию, и особых перспектив на будущее не было видно. Царила депрессия, но тем не менее оставшиеся что-то делали. На протяжении 70-х художники довольно сильно консолидировались; фактически возникло профессиональное художественное сообщество, и даже массовая эмиграция, явившаяся в определенной степени социальной катастрофой, этого сообщества не уничтожила. Просто теперь оно растянулось в пространстве, но определенные связи оставались: люди продолжали общаться по телефону, переписываться, в Москве готовились материалы для журнала, который в Париже издавал Игорь Шелковский, продолжались квартирные выставки, в том числе и у меня дома.
В начале 80-х я еще работал в издательстве «Советский художник», где редактировал альманах/сборник «Советское искусствознание», выходивший два раза в год. <...>
Тогда меня еще пытались вербовать. В отдел кадров издательства пришел какой-то сотрудник КГБ, меня вызвали и оставили с ним один на один, и он минут сорок со мной беседовал о современном искусстве. Цель его визита была для меня ясна, хотя мой собеседник ее не артикулировал, а я делал вид, что не понимаю, чего от меня хотят. Мы тогда знали, как себя вести в подобных случаях: в разных домах (в том числе и у меня дома) проводился своеобразный семинар на тему «как вести себя на допросах в КГБ». Следовало сразу всем рассказать о встрече с гэбистом. И я тут же пошел к директору издательства и ему первому сообщил о встрече. Больше я своего «собеседника» не видел.
Начинались 80-е ссылкой А.Д. Сахарова, продолжался поток эмиграции, сопутствующие эскапизму пьянство, смерть художников... В общем, первая половина 80-х была весьма мрачной. Для меня особенно: в 79-м умер мой сын, в 82-м — мама, в 86-м — моя жена. Сейчас я думаю, что личные трагедии как бы блокировали для меня непосредственное переживание депрессивной атмосферы, доминировавшей тогда. Однако обстановка в нашей редакции ежегодников (так она называлась) была нормальной; в то время мы выпускали лучшие аналитические сборники по искусству. Впрочем, по современному искусству — в современном понимании этого термина — там печатать почти ничего не удавалось. Один из сборников «Советского искусствознания» был даже фактически арестован, изъят из книжных магазинов: вырезали статью Ю.А. Молока и В.И. Костина и заставили перепечатать тираж. Сейчас, как ни парадоксально, я с теплом вспоминаю об этом эпизоде — разумеется, не о факте ареста, а о замечательных авторах, которых, к сожалению, уже нет в живых, и о том, как достойно вели себя сотрудники редакции. Помимо круга высокопрофессиональных авторов и весьма уважаемых членов редколлегии сборника у нас были замечательные сотрудники в самой редакции, с которыми было приятно работать и дружить. Изредка нам все же удавалось там что-то опубликовать, посвященное современному искусству, но это случалось чрезвычайно редко и скорее в конце 70-х. <...>
Г.К.: Удавалось ли в начале 80-х проводить выставки в официальных пространствах?
Л.Б.: Да, какие-то выставки удавалось проводить помимо «квартирных». Скажем, на Пушкинской, в Центре дизайна, мы провели выставку и что-то вроде конференции на тему «Фотография и современное искусство». Это была практически первая в России экспозиция, вводившая фотографию в ряд современного искусства. Конечно, это была «случайная практика».
В это же время меня приняли в Союз художников, что дало возможность в середине 80-х уйти с работы и не попасть в разряд тунеядцев. По советским законам нельзя было нигде не работать. Многие устраивались кочегарами, лифтерами, сторожами, дворниками. Удачливые — личными секретарями к членам творческих союзов, например Союза писателей, но не всем так везло. Перестав работать в штате, я, «подавая надежды» и пользуясь дружескими связями в правлении Союза художников СССР, стал ездить на искусствоведческий семинар в Палангу, где собирались профессионалы из балтийских республик, России, из разных городов Союза, с которыми было замечательно дружить и интересно сотрудничать. Круг участников был довольно широкий: Борис Бернштейн, Генрих Игитян, Карл Кантор, Тамара Луук, Юрий Молок, Лайма Слава, Натан Эйдельман, Михаил Ямпольский и другие.

Г.К.: Ты все же играл тогда определенную роль в Союзе художников. Как проходила организация однодневок и что творилось в это время в МОСХе?
Л.Б.: В МОСХе были разные люди, включая многих ныне известных героев, независимых художников — от Булатова до Пригова. Но наиболее яркими, ассоциирующимися с МОСХом были художники, либо сопрягавшие московский сезаннизм с новыми поисками, типа Павла Никонова, Николая Андронова, Владимира Вейсберга, либо адепты В.А. Фаворского, как Илларион Голицын, либо вдохновлявшиеся примитивизмом, как Наталья Нестерова. Также в сфере деятельности МОСХа весьма активно проявляли себя искусствоведы: В. Костин, А. Кантор, Ю. Молок. Это были художники и искусствоведы разных поколений; их знали, уважали, и постепенно они становились определенными лидерами, даже если у них не было званий, персональных выставок или каких-то официальных постов в структуре Союза. Это и был «левый МОСХ». Ну и я среди молодых критиков что-то пытался сделать.
По инициативе этого «левого МОСХа еще в 70-е были созданы творческие клубы. Наиболее действенными были: «Клуб искусствоведов», которым руководил, если я не ошибаюсь, Владимир Иванович Костин; «Клуб скульпторов», где в выставочной деятельности активное участие принимали Д. Пригов и Б. Орлов, и «Клуб молодых художников и искусствоведов» под опекой А.М. Кантора. Эти клубы, как, впрочем, и другие подобные, проводили однодневные дискуссионные выставки, иногда весьма интересные, но пускали туда только членов МОСХа или по каким-то дружеским спискам. Понятно, что провести туда можно было многих, но все же надо было делать специальные усилия. Там выставлялись в основном левые мосховцы, но со временем стали показывать и московский андеграунд, а иногда и питерский.
Помимо мосховской площадки существовало еще общество философов — странная организация, куда входили не только сотрудники Института философии, но и пришлые люди вроде нас с Иосифом Бакштейном. Там было занятно, и под эгидой этого общества я устраивал какие-то выставки и какие-то концерты в Доме ученых.
А дома я делал в основном выставки приезжих художников, потому что москвичи и так могли найти себе место. <...>
Вторая половина, как я уже сказал, разительно отличается от первой в связи с перестройкой и всей сопутствующей атмосферой. Появилась возможность создавать любительские, общественные объединения, первые кооперативы, и в самом конце 86-го года я с друзьями создал любительское объединение «Эрмитаж». А в 87-м мы получили выставочный зал на Профсоюзной, у метро «Беляево», недалеко от того места, где когда-то была «бульдозерная выставка». Там мы функционировали очень активно: устраивали и концерты, и перформансы, проводили выставки, мастер-классы, причем диапазон персонажей был очень широким — от маститых философов до молодых, начинающих художников, фотографов, музыкантов.
Диапазон выставок тоже был довольно обширным: фактически мы впервые показали панораму советского независимого искусства, включая художников-эмигрантов, что вызвало напряжение в отношениях с КГБ, который пытался сорвать эти выставки и грозил нам неприятностями. Тем не менее мы все сумели провести и показать, включая Оскара Рабина, с которым было больше всего сложностей, потому что он был лишен гражданства. Мы проводили выставки в Беляеве и в зале на Петровских линиях, где выставляли графику. На Петровских линиях нам организовали потоп — якобы на верхнем этаже прорвало трубу — и зал залили водой. Хорошо, что работы не были испорчены. А в Беляеве нам грозили закрыть выставку «пожарные» под предлогом обрыва какого-то кабеля, но все же они не решились это сделать и дали возможность открыть экспозицию.

Г.К.: Такое активное сопротивление было характерно, как я помню, для начального периода перестройки в культуре, то есть для 1987 года.
Л.Б.: Да, это был 87-й год. Приходил к нам постоянный наблюдатель из КГБ вместе с сотрудниками Комитета по культуре Москвы и пытался заставить нас снять работы эмигрантов, но мы не поддавались и выставили все, что планировали. Шла перестройка, но долгое время никто не понимал, у кого какие полномочия, и мы этим пользовались и настаивали на своем. Фактически на основе этих экспозиций прошла потом выставка в Третьяковке, была издана Ириной Алпатовой с Леней Талочкиным книга «Другое искусство», да и многие там начали работу в те годы. Милена Орлова и Александра Обухова, которые еще учились в университете, были у нас то ли билетерами, то ли уборщицами, сторожем работал Коля Филатов; в деятельности «Эрмитажа» принимали участие Ольга Свиблова, Андрей Ерофеев. Это была хорошая компания: отдельные направления деятельности некоторое время вели Никита Алексеев, Вадим Захаров; кино представляла Катя Гердт, архитектуру — Юрий Аввакумов. В совет «Эрмитажа» входила Марина Бессонова... Так что в нашей работе участвовали люди разных поколений и представители разных видов искусства.
Какое-то время в середине 80-х я жил в мастерской, где тоже проходили своеобразные семинары с участием сотрудников Института философии и журнала «Вопросы философии» или импровизированные концерты. <...> Но все это бурление происходило именно в середине 80-х, а начало, как я уже говорил, было мрачноватым.
С перестройкой возникли какие-то иллюзии, и они дали энергию заниматься «Эрмитажем». После выставки «Ретроспекция» мы просуществовали в зале на Профсоюзной до конца года, но в 88-м нас оттуда выгнали. За тот год к нам пришло очень много людей — разные западные кураторы, критики, журналисты, телевизионщики, — и возникло много новых контактов и связей. В Голландии вышел журнал, посвященный «Эрмитажу», да и во многих других странах Европы прошли публикации. Поэтому, когда у нас отобрали помещение, я продолжал делать выставки в разных местах, где только можно было. Благодаря новым связям можно было что-то публиковать на Западе. Тогда же приехали в Москву люди из аукциона «Сотбис», которые фактически каждый вечер сидели у меня дома, и если бы дома висели работы других художников, то большая часть состава «Сотбиса» 1988 года была бы, наверное, другой. В то время я с ними дружил, и тогда еще трудно было предположить, что аукцион в определенной мере негативно повлияет на художественную ситуацию в России. Если вначале ситуация была романтически-художественной, то вскоре возник сильный крен в сторону рынка и коммерции. Художники, не готовые к соблазнам рынка, как бы сошли с ума. Еще в 87-м мы каких-то жуликоватых дилеров просто выгоняли из своего выставочного зала, но соблазн был велик, и многие художники, не подготовленные к взаимоотношениям с рынком, в этот соблазн влипли.
Сейчас довольно приятно вспоминать ту эпоху, но уже Фурманный, по сравнению с «Детским садом», был очень сильно пропитан коммерцией. Конечно, атмосфера еще была живая, все раскачивалось из стороны в сторону, и в Москву тогда активно ехали художники из провинции, так что жизнь была довольно бурной.
Г.К.: Таким образом, «Эрмитаж» в 1988-м фактически завершил свою деятельность?
Л.Б.: Была иллюзия, что он существует, но фактически он прекратил свое существование. Каждый из нас продолжал проявлять свою активность где только мог. <...>
В конце 80-х мы с Никичем и Юреневой сделали попытку создать Центр современной художественной культуры, опираясь на частный капитал. Но это была утопия, потому что наши бизнесмены были милые ребята, с которыми было хорошо дружить и выпивать, но иметь дело — некомфортно, и я быстро от этого отключился. Впрочем, Никич с Юреневой продолжили делать выставки на Петровском бульваре. В 90-м при поддержке друзей, и прежде всего Татьяны Никитиной, мы получили один из районных выставочных залов на Якиманке, но эта деятельность развернулась уже в 90-е. Но сами программы действия были сформулированы еще тогда, в 87-м году, в «Эрмитаже», и я до сих пор на них опираюсь. Эти стратегии включают междисциплинарность, особое внимание к независимому отечественному искусству, сопряжение выставочной практики с аналитической, аккумуляцию материалов по истории современного искусства, сотрудничество с западным художественным сообществом и прочее. Конечно, потом все это оттачивалось, конкретизировалось и уточнялось, но методы и направления работы стали ясны уже тогда. Мы ничего не придумали нового, эти стратегии используются во всех культурных центрах, но необходимо время, чтобы укоренить их в нашей практике.

Г.К.: Было ли ощущение в середине десятилетия, что мы идем в ногу с западными течениями в современном искусстве того времени, или тогда это не имело значения?
Л.Б.: Я думаю, что в середине 80-х это была уже иллюзия. Какие-то отдельные явления в нашем искусстве в середине 70-х были до известной степени параллельны, и даже на хорошем уровне, но к середине следующего десятилетия мы утратили адекватную самооценку и увлеклись культивацией субъективной иллюзии параллельности. Все охотно смотрели на то, что делалось на Западе, а поток информации увеличился к тому времени в разы. <...>
А после «Сотбиса» у художников просто поехала крыша. Все решили, что завтра же они станут миллионерами и закидают шапками Запад, поэтому в конце 80-х мы очень подпортили репутацию русскому искусству, от которого на Западе многого ждали и Россия получила тогда своеобразную квоту в художественном мире, как раньше это было, например, с Испанией. Но Россия не сумела ею воспользоваться, и в 90-е годы произошел очень сильный откат, спад интереса к России, и надо было ждать новой волны, чтобы как-то начать исправлять ситуацию.
Г.К.: Как ты думаешь, почему это произошло?
Л.Б.: Механизм неудачи был задействован с двух сторон. С одной стороны, это случилось по причине непроясненности, неосознанности современного отечественного искусства. С другой стороны, с Запада к нам рванули шустрые дилеры, которые решили, что нельзя упустить момент и надо быстро купить задешево, быстро продать и заработать на этом. К сожалению, они не очень разбирались в искусстве. Некоторые из них были вполне энергичными дилерами, типа Нахамкина, но в целом это были дилеры весьма невысокого уровня. Настоящие коллекционеры и ценители редко попадали сюда, хотя такие и были, но их интерес к России сформировался еще в 70-е годы. У нас же таких цельных, оригинальных и разносторонних мастеров, как Кабаков, было немного. А торопливые молодые художники в это время стали активно готовить продукцию под вывоз — и были ошибочно удовлетворены общением с этими дилерами.
Сложившаяся ситуация испортила возможные действительно культурные отношения с художественным миром. Настоящего образования и настоящего знания современного искусства у наших художников, естественно, не было, о критиках вообще не говорю; получать их было некогда, осознавать собственный опыт при отсутствии института критики, музеев современного искусства было крайне трудно, практически невозможно. Все торопились быстро что-то произвести и продать какому-нибудь очередному Клауке, Нахамкину, которые съехались в Москву и стояли в очереди.
Г.К.: Что, на твой взгляд, послужило импульсом для начала перестройки в идеологии и культуре? Ведь в начале перестрой ки процессы, шедшие в стране, были далеко не параллельными.
Л.Б.: Да, идеология и культура держались до последнего. Вообще-то этот вопрос не совсем ко мне, лучше спрашивать политиков или социологов. Но я полагаю, что перестройку готовил КГБ как наиболее образованная и знающая ситуацию структура, еще со времен Андропова. Они ведь начали ее готовить очень давно, с начала 70-х! С их помощью, по-видимому, был создан Музей современного искусства в Ереване — это первый музей современного искусства в СССР — в 1972 году. Позже было инициировано создание секции живописи при Горкоме графиков на Малой Грузинской — под колпаком КГБ, потому что Союз художников СССР, гораздо более прогрессивная организация, чем МОСХ, категорически отказывался патронировать этот круг художников. Сотрудники специальных подразделений КГБ хорошо знали изымаемые публикации, следили за тем, что выходит на Западе, но у них были разные отделы и департаменты, и политические изменения, видимо, готовили другие институции, связанные скорее с ЦК КПСС, поэтому тесного согласования и сопряжения между ними не было. Где-то один департамент забегал вперед, где-то другой. Эти процессы, собственно, продолжаются до сих пор. Думаю, мало что в этом плане изменилось.
Г.К.: Фактически, как мы знаем, критиков в 80-е не было. Но некий дискурс в сообществе все же витал. Какие проблемы стояли перед искусствоведами конца 80-х? Как шло тогда самообразование нового языка советской критики?
Л.Б.: Нового языка практически не было. Были искусствоведы, которые в лучшем случае занимались «левым МОСХом», русским историческим авангардом или общими вопросами художественной культуры, — от историка искусств академика Д.В. Сарабьянова до эстонского теоретика Б.М. Бирштейна в Таллине. Однако в 80-е, когда андеграунд стал выходить на поверхность, оказалось, что никто к этому не готов, специалистов не было. Один-два человека, типа Б. Гройса, уехали на Запад, а университет таких специалистов не готовил. Я свой диплом защищал в середине 70-х, и это был, кажется, первый диплом в МГУ по современному искусству. Практически никакой аналитики в момент выхода независимого искусства к широкой аудитории не было. Ее не хватает и сейчас. На мой взгляд, институт критики у нас только формируется, есть только художественная журналистика; университеты не удовлетворяют спроса на специалистов по современному искусству. До сих пор их можно пересчитать по пальцам. Института художественной критики и до сих пор нет. Хотя думаю, что в других видах искусства дело обстоит лучше. Есть иллюзия, что визуальное искусство в силу специфики коммуникации воспринимается гораздо быстрее. Однако осмысливается и артикулируется не легче.
<...>
Москва
Октябрь 2012 года




