Кирилл Ермолин-Луговской: «Нужно быть особо чувственными, но при этом точными»
«Жизнь в искусстве» Кирилла Ермолина-Луговского началась в Самаре, среди молодых художников, формировавших новую волну местного арт-сообщества, и продолжилась в Москве — уже в окружении старших коллег. На пересечении этих городов, независимых инициатив и крупных институций, текста и пространства, личного и коллективного опыта, а также на внимательном исследовании зрительского восприятия и игре с ним строится его художественная практика. В этом интервью Кирилл вспоминает Самару, рассуждает о горизонтальных связях, нонспектакулярности и о том, как искусство становится сегодня альтернативным способом высказывания.
 Кирилл Ермолин-Луговской. Courtesy художник
Кирилл Ермолин-Луговской. Courtesy художник
Артгид: Ты начал заниматься искусством в 2018 году, сделал свою первую персональную выставку в 2021-м, выпустился из «Базы» в 2023-м, а в 2024-м стал сокуратором самоорганизованной галереи осси «ми» (самарская квартирная галерея, основанная в 2022 году художниками Ильей и Снежаной Михеевыми. — Артгид). Считаешь ли ты свое вступление в российское современное искусство своевременным? Находишь ли период, в который мы живем, подходящим для твоей практики?
Кирилл Ермолин-Луговской: Часто мои концептуальные замыслы рождаются из чувственного опыта. Я ощущаю некие разрывы, рассинхронизации, которые проявляются сквозь повседневность. Конечно, последние несколько лет меня преследует чувство ужаса — через такую призму я и смотрю на современность. Но мне не кажется, что есть некий единый стилистический или медиальный способ его расшифровки, ведь это чувство очень многообразно. Современная практика скорее прибегает к различным лингвистическим приемам, разговору и высказыванию как таковым. Сейчас искусство стало важным способом говорения, причем этот способ гораздо больше, чем язык, репрезентирует время, вещи и, конечно, самого автора высказывания.
Моя первая и единственная работа в 2022 году называлась «Время». Она представляла собой настенные часы, рядом с которыми находился небольшой бланк: в него нужно было вписать то, что показывают стрелки на циферблате в данный момент. Время на часах не московское, а самарское. Это путало зрителей и выявляло тех, кто подсматривал в телефон. В 2023 году я больше погрузился в лингвистические исследования и сделал маленькую работу «Текст» в Кирове, выставку в осси «ми» «да нет наверное» и поучаствовал в выставке «Смещения» в составе группы «Практика нонспектакулярного искусства» (созданная в 2022 году группа, куда входят Илья Качаев, Тина Шибалова, Павел Плеханов, Михаил Рубанков, Роман Шалганов, Иван Хрящиков, Полина Абина, Илья Михеев, Наталья Горбунова, Кирилл Ермолин-Луговской, Кристина Рамли, Андрей Ишонин и Ия Богомолова. — Артгид). Выставка «да нет наверное» продолжала «Текст»: и там, и там я создавал тяжелые условия для зрителя, заставлял его чуть ли не лечь на пол, чтобы вступить во взаимодействие с произведением. Но согласившись, из этого положения лежа зритель видел или в случае выставки в осси «ми» слышал «нет». Артикуляция «нет», заключавшего в себе отказ и протест одновременно, казалась мне тогда наиболее важной, а искусство было единственным возможным способом сделать это.




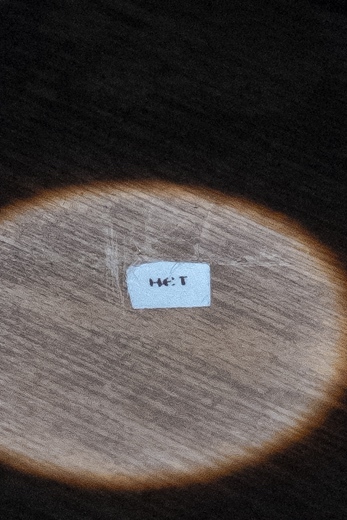
Артгид: Как вообще началась твоя художественная практика?
Кирилл Ермолин-Луговской: Я всегда рисовал, всегда чувствовал себя художником. Родители никогда не ограничивали меня в выборе пути, маме было важно сохранить во мне эти чувства: она отдала меня в школу с художественно-архитектурным уклоном, затем приняла мое решение уйти оттуда в Самарское художественное училище, где я четыре года учился на театрально-декорационного художника. Даже мой переезд в Москву она восприняла нормально.
Желание не быть «академическим» родилось после посещения галереи «Виктория» в Самаре, куда я часто ходил уже на первом курсе. Тогда я стал осознавать, что искусство может быть шире простого владения формой и цветом и, таким образом, интереснее. Мое знакомство с современным искусством совпало с появлением нового молодого самарского художественного сообщества. Общение между художниками тогда было одним из определяющих факторов его формирования. Получилось так, что старшее поколение — художники Владимир Логутов, Андрей Сяйлев или Александр Зайцев — уже перебралось в Москву, и мы, не имея прямой преемственности с более опытными коллегами, сами разбирались с тем, что такое современное искусство. Я, конечно, немного лукавлю: Сергей Баландин и Илья Саморуков оставались в Самаре и были в доступе, но в нас жило некоторое «подростковое» бунтарство, и многое мы хотели узнать сами.
Надо сказать, что и время было относительно веселое — 2018–2019 годы. В Самаре проходил чемпионат мира по футболу, а кризисы 2011–2013 и 2014 годов казались довольно далекими. Чуть позже мы познакомились с книгой Клэр Бишоп «Искусственный ад». Она, конечно, больше повлияла на моих друзей из аут-группы «Муха» — Никиту Кузнецова, Галю Зыбанову, Дениса Ракитянского и Даниила Сайко, но из-за плотного обсуждения социального искусства с ними вопрос зрительства влиял и на то, как я подходил к художественному производству. Короче говоря, вопрос сообщества — как внутри тусовки, так и за ее пределами, — был важен для нас в тот момент.
Артгид: Давай продолжим путешествие по местам. Что случилось после Самары?
Кирилл Ермолин-Луговской: После окончания училища летом 2021 года я поехал в Москву, где посетил большую обзорную выставку выпускников всех московских школ и институтов современного искусства (программа Винзавод.Open. — Артгид). Тогда мне больше всего приглянулась «База». Не помню, почему именно: то ли работы были более продуманными, то ли сама концепция выставки показалась более сфокусированной. И я решил поступать туда.
В Институте познакомился с Ильей Качаевым, Тиной Шибаловой, Фархадом Исрафилли-Гельманом, Ваней Хрящиковым, Наташей Горбуновой, Алиной Бровиной и многими другими. Некоторые из перечисленных — как раз участники «Практики нонспектакулярного искусства». Думаю, что создание сообществ — художественных групп или независимых пространств (Центр Красный, осси «ми» или К320) — было негласным, но очень важным направлением для выпускников. Выстраивание дружеских и профессиональных связей между учениками помогало и коллективно осмыслить происходящее вокруг, и создать что-то свое, немного автономное от устоявшейся системы. Эти проекты сформировали свой внеинституциональный ландшафт арт-мира.





Артгид: Почему так важны горизонтальные отношения в искусстве?
Кирилл Ермолин-Луговской: Потому что в них художники не отчуждают труд друг друга в марксистском понимании [смеется]. Я думаю, сопричастность, со-создание и некое коллективное множество — это горизонтальный путь. Вертикальность будто требует от тебя исполнительности в рамках заданного поля: ни влево, ни вправо. Горизонтальность, по крайне мере та, которую мы сохраняем в осси «ми», не подразумевает, что мы не делим ответственность друг с другом. Скорее наша ответственность или агентность перформативна. Мы меняемся, общаемся и поддерживаем друг друга. Как сказал бы мой друг, сокуратор и сооснователь осси «ми» Илья Михеев, сокуратор в горизонтальной площадке — это некий художественный агент: твоя деятельность не монолитна, ты — некий спектр ответственности, власти и производства.
Артгид: И вот мы снова в Самаре. Еще один шаг — осси «ми», где ты сокуратор.
Кирилл Ермолин-Луговской: Я присоединился к осси «ми» только год назад. В 2021 году с лета по декабрь аут-группа «Муха» открыла свое независимое пространство «Штаб». Тогда для нас, молодых самарских художников, это стало чуть ли ни первым независимым пространством в городе с регулярными мероприятиями (конечно, для коллег постарше главным независимым пространством была уже давно закрывшаяся галерея «Одиннадцать комнат»). Мы часто бывали в «Штабе», до моего переезда я даже провел там свою выставку «Трепет панк: мемуары». На небольшом белом подиуме находились белые предметы, отражающие мои воспоминания. По периметру белой площади были расставлены бычки, а рядом наклеены QR-коды, перейдя по которым, можно было услышать звук биения моего сердца. В течение одной недели я записывал сердцебиение, пока курил сигарету, и тем самым вел своего рода дневник.
В «Штабе» выставлялись и другие художники. К сожалению, к декабрю он закрылся, а Илья и Снежана Михеевы как раз искали независимое пространство для своей выставки и решили открыть ее в одной из свободных комнат прямо у себя дома. Это и стало началом осси «ми». Илья и Снежана продолжили проводить выставки, мы много разговаривали, и наши взгляды на искусство, производство и желание делать что-то независимо во многом совпадали. Мы поняли, что можем, как говорит Дэвид Джослит в книге «После искусства», выстраивать сети связей, в нашем случае — между Москвой и Самарой, между искусством и исследованием чувственного. Надеюсь, нам удастся найти и укрепить еще много других связей.



Артгид: Твоя выставка «Площадь революции», которая недавно прошла в московской галерее «корней», обыгрывает определенный «номинализм»: почти в каждом городе есть Площадь революции, хотя критическое осмысление и обсуждение этого исторического события пресекается.
Кирилл Ермолин-Луговской: Идея выставки «Площадь революции» родилась зимой 2024 года. Тогда мне показался интересным разрыв между названием, которое дала многим площадям советская пропаганда, и реальным контекстом. Я обсуждал эту идею с некоторыми галереями, даже почти договорился с одной, но в итоге выставка не случилась по разным причинам. Уже позже, вместе с куратором выставки Юлей Тихомировой, я довел концепцию до ума, остановился на девяти городах, подготовил чертежи холстов, пропорционально равных площадям революции в них, вписал экспозицию в «клин», и решил вешать все на металлические тросы.
Для меня это абсолютно фантастическая экспозиция. До монтажа я не понимал, как зритель будет соотноситься с холстами. Мне кажется, это первое чувство, которое испытываешь при входе в пространство выставки: попадаешь в окружение объектов и переживаешь опыт как бы блуждания-между. Я бы сравнил эти холсты с толпой: они будто куда-то идут — неспешно, то есть не торопятся в метро, а ступают более размеренно; ты попадаешь в окружение того, что выше тебя. К тому же выставка действует топографически: место, где она находится, — максимально буржуазное. Большая Никитская, квартира этажом выше дорогого ресторана — такая диалектика между пространствами, противоречащими друг другу. Инсталляция как будто должна проломить этот пол и упасть прямо на головы посетителям ресторана.
В тексте к выставке Юля Тихомирова предлагает воспринимать клин через «Клином красным бей белых» Эль Лисицкого и стихотворение «Журавли» Расула Гамзатова. Но по-моему, под этим клином можно понимать разное и придумать ему почти любое значение: площадь, некая стрела, что-то еще. Наверное, я нахожусь в этом клине, неважно кого, Лисицкого, Гамзатова или в моем собственном. Думаю, где-то клин может быть и локомотивом, как у Беньямина в «О понятии истории», который, в прочтении Жижека, движется в пропасть.
Артгид: Но в текущих условиях эта площадь — «пустое означающее», форма без содержания. Значит ли это, что Площади революции не существует?
Кирилл Ермолин-Луговской: Не совсем так. Возможно, здесь есть левая меланхолия, но не в духе «проще представить себе конец света, чем конец капитализма», как у Марка Фишера (английский философ (1968–2017). — Артгид). Скорее это нечто, направленное на само «левое движение». Я согласен, что понимание «левого» заключается не в каких-то означающих, а в каком-то «со-» — солидарности, содружестве… Но при этом означающие существуют как призраки. В какой-то момент я увлекся левой философией — Фишером, Ги Дебором. Это сильно уточнило мои взгляды на мир, повлияло на ощущение пространства вокруг и дало осознание важности художественного высказывания в социальном поле. До того мне не приходилось задумываться, что люди вообще занимают какие-то политические позиции: эгалитарность была для меня необходимостью человеческого сосуществования.
Многие отметили, что это довольно «базовский» формат работы: брать какой-то политически ангажированный объект и взаимодействовать с ним. Но с революцией сложно работать: мы должны соотнестись с площадью, с самой революцией, с тем, как пользоваться этим названием «Советский Союз». Для меня мачизм, присущий акционизму 90-х, сегодня выглядит уже не так релевантно. Джудит Батлер в книге «Сила ненасилия» писала, что противостоять правому повороту и трампизму нужно не силой, а более радикальной политической формой — ненасилием. Хотя сегодня мы живем уже при втором сроке Трампа, я до сих пор думаю, что это возможная модель противодействия. С мачизмом мы сталкиваемся везде: баталии политиков и буржуазии в Twitter, билборды на улицах, поведение известных рэперов, сгенерированные AI-видео, продвигающие райские «острова» на руинах. Я выступаю за то, чтобы быть особо чувственными, но при этом точными. По словам философа Питера Осборна, художник — это агент скрытого разрыва капиталистического общества с его собственными правилами; для меня это правило — быть мачистским постмодернистом. Нужно сохранять в себе определенную ранимость, чтобы не терять агентность разрыва.
В этом и заключается моя идея: «революция» не как мачистский перформатив, а как революция эмпатии. В некотором смысле это романтическая позиция, основанная на сочувствии, но сегодня она оказывается самой важной. Я начинал заниматься нонспектакулярным искусством скорее как тем, что сложно уловить зрителю, но при этом и как тем, что может быть больше и масштабнее давящего контекста. Нонспектакулярность заставляла искать или случайно обнаруживать. Иногда появлялись работы, где встреча оказывалась насильственной — например, в уже упомянутом «Тексте» и «да нет наверное». Зрителю нужно было преодолеть себя, лечь на пол галереи, но в отказе, в постулировании зрителем «нет, я не буду этого делать», есть то же «нет» и, таким образом, обретение субъектности. Отказ — это позиция: нужно понимать, что происходит, чтобы сказать «нет». Такое обретение субъектности казалось мне важнее прямых комментариев. Также это про соотношения: нужно выстроить связь и между тобой как зрителем, и с работой.




Артгид: Мы уже говорили о важности совместной работы и горизонтальных отношениях. Все мы принадлежим разным тусовкам и институциям. Опиши свои ощущения от нахождения в этом сообществе.
Кирилл Ермолин-Луговской: Мне сложно говорить про московское сообщество. Я тут с конца 2021 года и понимаю, что сегодня оно совершенно другое, не то, каким было раньше, до моего переезда. Это довольно сильно ощущается. Я не сталкивался с теми, кто четко артикулирует свою ностальгию, но чувство опустошенности последние четыре года довольно явное. Конечно, оно небезосновательно, но помимо него есть и ощущение потерянного времени. Это, кстати, похоже на Фишера: призрак как тоска по утраченной возможности.
Самара тоже поменялась, но из-за весьма небольшого локального сообщества смогла сохраниться лучше. В Москве в этом плане тяжело: сообществ много, они часто конфликтуют между собой или стараются не сталкиваться. В городе на Волге ситуация обстоит иначе. Людям там тяжело ругаться, ведь они все связаны: многие художники работают в музеях, и нужно сохранять межинституциональное сотрудничество. Выставки тоже проходят не так часто, их посетители — одни и те же люди. В этом есть и проблема, поскольку мы все варимся в одном котле, и польза, так как мы часто поддерживаем друг друга несмотря на разность позиций.
Артгид: Самара показалась мне более витальной. Самарские художники — живые, в Москве — больше зомби.
Кирилл Ермолин-Луговской: В Самаре тоже есть зомби [смеется]. Ты просто попал в определенную тусовку, хотя открытия в осси «ми» часто перерастают в «закрытый клуб по интересам». Мы с Ильей Михеевым недавно писали текст для «Художественного журнала», который заканчивали как раз рассуждением о том, что такие вернисажные тусовки — одна из важных частей художественного производства. Ты не только выставляешь объекты, ты еще и актор события. События, где вы как раз можете чувствовать друг друга, обмениваться мнениями. В этом смысле «Лаборатория чувственности» (серия встреч в осси «ми», посвященных культурной медиации и обсуждению разных сторон чувственного опыта; куратор — Коля Нахшунов. — Артгид) вписана в нашу парадигму как попытка поделиться личным, переживаниями, мыслями… То же самое происходит и на открытиях, но в лаборатории это более формализовано и рефлексивно.
Артгид: Тем не менее сейчас мы в Москве. И после нашего разговора ты пойдешь на работу в институцию.
Кирилл Ермолин-Луговской: А мне нравится. Точнее, думаю, когда ты находишься в какой-то системе, тусовке, неважно, принадлежишь ли институции или независим, главным остается твое взаимоотношение с другими. В этой оптике можно снять некоторый институциональный снобизм и сосредоточиться на человеке — выстраивать с ним отношения, сохранять их или разрушать. Про осси «ми» часто говорят, что мы сильно связаны с московским контекстом. Отчасти это правда, но причина не столько в поиске точек соприкосновения, сколько в ощущении и пересечениях травм. Мне важно сохранить причастность с тусовкой в Самаре, с тусовкой в «Базе», а недавно я начал ходить на открытия в галерее «корней», где совсем другие люди. Это наслоение сильно ощущается, для каждого по-разному, но для каждого трагично. Я чувствую, что могу доверять человеку, у которого вижу эту травму. Иногда хватает одного взгляда.




