Сергей Сафонов: «Если страна считает себя культурной, работа с наследием должна иметь определенный регламент»
Одна из старейших московских галерей «Кoвчeг» занимает странное, межеумочное место на художественной карте столицы. Она не принадлежит ни миру современного искусства, ни миру антиквариата, одновременно являясь самой современной из работающих с наследием прошлого галерей и самой «традиционно-новаторской» в плеяде частных институций contemporary art. «Кoвчeг» открылась в 1988 году, когда молодые художники, изгнанные из обжитых подвальных мастерских расправляющими плечи кооператорами, в качестве компенсации получили от властей выставочный зал на Тимирязевской. Галерея, с которой в разные годы сотрудничали кураторы Алексей Ерохин, Юрий Петухов, Дмитрий Смолев, Игорь Чувилин, Вадим Гаршин, всегда отличалась нетривиальным подходом к истории искусства и самому художественному материалу, умением в банальном увидеть редкое и оригинальное, а также иронией. Главный редактор «Артгида» Мария Кравцова встретилась с одним из основателей галереи, а сегодня ее единственным куратором Сергеем Сафоновым, чтобы расспросить о работе с наследием советских художников, устройстве перестроечного МОСХа, детском творчестве и о том, как почти четыре десятилетия оставаться верным избранному, но часто трудному пути.
 Сергей Сафонов. Фото: Александр Клищенко
Сергей Сафонов. Фото: Александр Клищенко
Мария Кравцова: Вы художник по образованию, окончили художественный вуз в 1980-е годы. Какие шаги в тот момент должен был совершить начинающий автор, чтобы встроиться в профессиональную систему?
Сергей Сафонов: У меня специфическое образование — я окончил худграф (художественно-графический факультет. — Артгид) Педагогического института, который всегда был местом двусмысленным. Туда шли люди либо понимающие, что они хотят в жизни делать, либо прошедшие школу, которую я бы определил как «левую», хотя сегодня это слово потеряло свое значение и, наверное, уже не очень понятно.
Мария Кравцова: Меня тоже интересует проблема терминологии: мы постоянно используем различные слова, но все меньше понимаем, что за ними стоит.
Сергей Сафонов: Я бы даже сказал, что эта проблема заключается скорее в нежелании прояснять какие-то вещи. Например, мы довольно долго носились с идеей сделать выставку про «левый МОСХ», предлагали ее Александру Морозову, когда он был замом по науке в Третьяковке, позже обращались к Зельфире Трегуловой, но не нашли понимания. При этом словосочетание «левый МОСХ» используется довольно активно, часто с отрицательной окраской, хотя само явление фактически не описано. А как можно любить или не любить то, в чем никто не разобрался? Мне с юных лет было понятно, как устроен Союз художников и что «левый МОСХ» — нечто предельно допустимое в рамках этой профессиональной системы, а за его пределами уже начинается андеграунд и более радикальные вещи.

Мария Кравцова: Как был устроен Союз?
Сергей Сафонов: Союз художников вовсе не был плохой штукой. Его административная структура легко считывалась по экспозициям принадлежавшего ему тогда главного выставочного зала на Кузнецком мосту, 11. Она сочеталась с эстетическими установками: начальство висело в первом зале — в одном углу почвенники, в другом — западники, самая большая картина всегда занимала место над сценой. Далее шли национальные диаспоры, а в самом дальнем зале, в глубине отдела графики висели «экспериментаторы» вроде Юрия Савельевича Злотникова и Алексея Васильевича Каменского. Они принадлежали совершенно другому искусству, но все же могли претендовать на определенные позиции внутри Союза. Когда случилась перестройка, к которой подгадали 17-ю Молодежную выставку, многие из этих позиций изменились, началось выковывание «перестроечного молодежного искусства», и из него выросло искусство «актуальное», а потом и то, что мы называем contemporary art.
В 1985 году я окончил институт, потом 15 месяцев провел в Советской армии, откуда подавал документы на вступление в Союз и работы на 17-ю Молодежную выставку, где и поучаствовал в общем хоре, где-то над кассой. Я вступил в Молодежную секцию, которая сама по себе была интересным явлением, таким лягушатником, и пытался выставляться. Тогда существовала система выставкомов (выставочных комитетов, осуществлявших как кураторские, так и цензурные функции. — Артгид), я и мои приятели приносили на них свои работы и слышали фразу: «Мы договорились такие работы не брать». Дело было не в качестве произведений, а в том, что мы не укладывались в шаблон «молодежного перестроечного искусства».
Мария Кравцова: Каким был этот шаблон?
Сергей Сафонов: В большой степени экспрессивное, в той же степени нефигуративное, отчасти социальное, но с элементами абсурдизма — как, например, в работах звезды 17-й Молодежной выставки Алексея Сундукова. Мне кажется, в конце 1980-х для Союза было важно абсорбировать пластические приемы европейского модернизма, и отсюда родился этот «заказ». Но я вырос в художественной студии, где преподавала воспитанница Злотникова Елена Афанасьева, поэтому словосочетания «левый МОСХ» и «либеральная ветвь живописи» никогда не были для меня жупелом. Я знал этих художников. И еще лучше узнал их, уже будучи членом Союза, где существовала, потом унаследованная галереей «Ковчег», практика однодневных или трехдневных выставок, куда можно было попасть только по мосховскому удостоверению. Там показывали авторов, которые не могли рассчитывать на большую персональную выставку, и часто этот показ сопровождался яростными обсуждениями.

Мария Кравцова: Вы можете привести примеры? Когда я смотрю на работы художников этого десятилетия, мне зачастую очень трудно понять, что в них так будоражило современников.
Сергей Сафонов: При ретроспективном взгляде довольно сложно понять, за что тогда боролись художники и что запрещала цензура. В 1980-е в Москве была собственная география и иерархия выставочных площадок: в центре выставляли все самое правоверное, а на периферии уже не очень — по логике «ну кто там живет, кто туда ходит?». Самым свободолюбивым считался выставочный зал на улице Вавилова, 65, где и сейчас располагаются мастерские МСХ. Именно там можно было провести выставку Тышлера, которому был заказан путь в залы на Кузнецком или на Беговой. Помню, на Вавилова готовилась групповая выставка, где участвовали Гариф Басыров, Леонид Берлин, Давид Давидович Штеренберг и Клим Сапегин. Ее не открывали, пока Берлин не привертит «набедренную повязку» к скульптуре обнаженного Высоцкого, а у Басырова накануне вернисажа сняли много работ по цензурным соображениям. И каталог этой выставки вышел без вступительной статьи. Сегодня сложно понять, чего такого ужасного увидела в тех работах цензура.
Мария Кравцова: Галерея «Ковчег» открылась как муниципальная площадка в конце 80-х — по идее, вы тоже должны были взаимодействовать с цензурным органом.
Сергей Сафонов: Да, первое время мы тоже «сдавали» выставки. К нам приезжал инспектор комитета по культуре, женщина, которая ходила по залу и говорила: «Снять, снять, снять, снять».
Мария Кравцова: Вы понимали, по каким критериям снимаются работы?
Сергей Сафонов: Я не знаю, были ли это критерии формализованы в какой-то инструкции, но кажется, что она реагировала в первую очередь на определенный набор символов — звезду или, к примеру, крест. То есть проблемой становилось формальное наличие атрибутов, которые могли быть считаны как религиозные или идеологические. Немного помучившись с этим «снять», мы в какой-то момент поняли, что работа с наследиями — прекрасная вещь: на вопрос цензора «Что открываете?» всегда можно было ответить «Наследие художника такого-то, 30-е годы», после чего утверждение состава выставки ограничивалось разговором по телефону.

Мария Кравцова: Давайте вернемся на шаг назад. Вы заканчиваете обучение и вступаете в Молодежную секцию МОСХа…
Сергей Сафонов: Никакой творческий многотысячный союз не может объединять только единомышленников. В нем состояли очень разные люди: и уже упоминавшиеся Злотников и Каменский, и Илларион Голицын, и Екатерина Григорьева. То есть Союз не воспринимался нами как нечто сугубо консервативное. В конце концов, мы сами, я и мои друзья по Молодежной секции, занимались тем, что тогда называлось «традиционным новаторством».
Мария Кравцова: Это что же такое?
Сергей Сафонов: Сезаннизм, например. Многие из нас окончили худграф, который в тот момент был местом, где учили не только мастерству, но и мировоззрению. Сегодня мы видим, как выставки заполняют десятки новых художников категории Б: с ремеслом у них все хорошо, но нет мировоззрения. Особенность же наших учителей, часто художников «левого МОСХа», заключалась не только в их представлениях о ремесле, но и в том, что у них имелась определенная гражданская позиция. Им было важно и то, что и как человек рисует, и то, как он ведет себя и что говорит. Сегодня это этическое измерение абсолютно утрачено — непоротое поколение 80-х годов рождения довольно небрезгливо и готово подстраиваться под любые ожидания.
Мария Кравцова: Насколько я понимаю, галерея как выставочная площадка у вас появилась по компенсаторному принципу: у вас, молодых художников, были мастерские в каких-то подвалах, но потом пришли младобизнесмены и сказали, что искусства в этих подвалах не будет, а будут стоять вязальные машины.
Сергей Сафонов: Мастерские «в подвалах», из которых нас действительно в какой-то момент выставили, не принадлежали Союзу. Они были частью системы «дворовых клубов». В советское время при каждом ЖЭКе работал педагог-организатор, отвечавший в том числе за низовое художественное образование. Художник, даже не состоявший в Союзе, мог получить от ЖЭКа помещение под мастерскую в обмен на занятия с местными детьми раз в неделю. И это хороший бартер. Полученную таким образом мастерскую потом было вполне возможно переоформить на Союз. Перестройка разрушила эту систему. Первая волна кооперации нуждалась в обжитых помещениях, и они были у художников. Однако люди, которые в тот момент управляли культурой на районном уровне, сами отлично понимали, что нарождающийся бизнес чуть позже, но точно так же неотвратимо, как нас, сожрет и их. Они поддержали нас отчасти для того, чтобы выжить самим и продолжить чем-то руководить. К тому же у столичных властей в тот момент была установка на открытие в каждом районе выставочных залов — первый появился на улице Ремизова (сейчас галерея «Нагорная», входит в объединение «Выставочные залы Москвы». — Артгид). Так мы получили зал на будущей «Тимирязевской» и решили нашу главную проблему: у нас появилась возможность не просто выставляться, но делать на этой площадке все, что хотим. И вскоре простое желание повесить свои картинки на стенку и любоваться сменилось более амбициозными задачами — делать выставки авторов, симпатичных нам.

Мария Кравцова: Как появилась ретроспективная линия вашей деятельности, работа с наследием?
Сергей Сафонов: Из необходимости объяснить, что мы как художники возникли не на пустом месте. И на первых порах было очень сложно разорвать круг недоверия наследников и собирателей, ведь каждый из них в первую очередь спрашивает: «Кто еще дает вам работы?» Но нам повезло: довольно быстро мы встретили людей, которые помогали нам дотянуться до каких-то вещей. Одной из первых согласилась предоставить работы на выставку Татьяна Александровна, дочь Александра Васильевича Шевченко. После этого появился выход на произведения его учеников — Валерия Каптерева, Михаила Кузнецова и других. Александр и Валерий Волковы дали работы отца, автора знаменитой «Гранатовой чайханы». Художник-график Александр Ливанов, преподававший в Полиграфе (Московский университет печати, сегодня — Высшая школа печати и медиаиндустрии. — Артгид), участвовал во многих наших выставках и как художник, и как коллекционер, и как держатель наследия, и как человек, который знает, где что лежит. Конечно, в ту эпоху речь не шла ни про какие продажи — скорее это было упоение доверием.
Мария Кравцова: Меня немного удивляют эти сложности, ведь вы начали работать с наследием поколения, которое практически не имело возможности для репрезентации, и любая возможность выставиться уже была ценной.
Сергей Сафонов: Часто мы не являлись первооткрывателями — многое из этого наследия было представлено несколько раньше на коротких выставках в кинозале Дома художника на Кузнецком. Но мы не просто показывали доступные работы, а скрупулезно собирали выставки, пытаясь дотягиваться и до музейных вещей. В какой-то момент мы сменили название «Выставочный зал исполкома Тимирязевского райсовета депутатов трудящихся» на «Государственный выставочный зал», что формально устраивало музеи, — и они начали выдавать нам вещи. К тому же тогда в музеях работало много директоров-энтузиастов. Им было важно показывать свои фонды. Владимир Воропанов из Вологды, Татьяна Куюкина из Твери; директор Марина Агеева из Нижнего Тагила сама привозила вещи. В какой-то момент началось встречное движение: нам начали предлагать разные наследия, чтобы мы занимались их судьбой. В РОСИЗО работала искусствовед Нелли Климова, которая отвечала за взаимодействие с региональными музеями. Она старалась знакомить с нами музейщиков, и таким образом очень много экспонатов через нас попали в региональные собрания. Ведь наследники часто были предоставлены сами себе, нередко получали работы в качестве нагрузки к унаследованной квартире и не понимали, что с этим делать. Например, художник Ольга Эйгес работала как плакатист, рисовальщик и акварелист. Она хранила не только свои работы, но и произведения мужа Игоря Полякова, умершего на фронте от сердечного приступа. Ее квартирку где-то в Ясенево в 1996 году наследовала двоюродная сестра. Благодаря Александру Ливанову она вышла на нас, мы все забрали и распределили по музеям. Но были ситуации, когда люди передерживали свои наследия, и они пропали. Если работы художника хранят, но не показывают, — его забывают. И таких сюжетов много. Но вообще, если страна считает себя культурной, работа с наследием должна иметь определенный регламент.
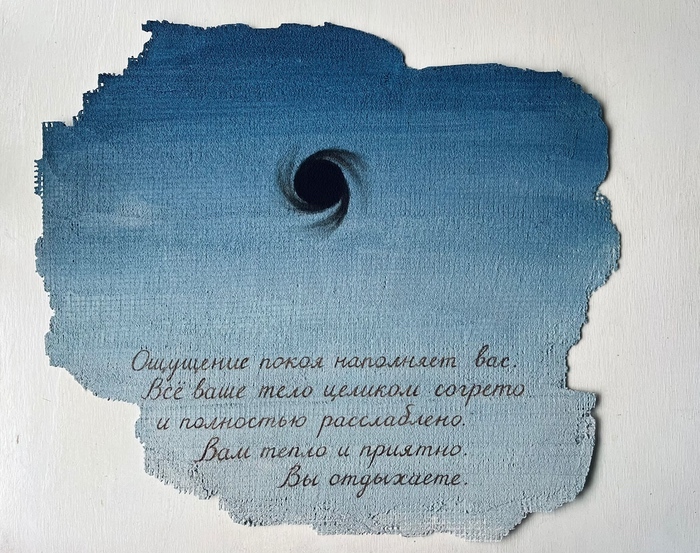
Мария Кравцова: Как он должен выглядеть?
Сергей Сафонов: Например, как-то в Париже мы ходили по галереям и в одной из них увидели корпус работ художника, имя которой, Зум Вальтер, нам ничего не говорило, но по всему было понятно, что это «наш клиент» и по времени и по качеству. Потом мы обнаружили ее работы и в другой галерее, и в третьей. Оказалось, что, когда художник умирает, специальная комиссия описывает его вещи, а потом галереи выкупают куски наследия по дилерским ценам. Они делают публикации, выпускают альбомы, проводят выставки. Да, это подходит под определение «оптово-розничная торговля», но в результате-то вещи не пропадают!
В 2000 году мы с Юрием Петуховым написали заявку на создание городского депозитария, который занимался бы наследиями. Нам ответили, что денег нет. У нас вообще в молодости было много подобных утопических идей, но постепенно мы поняли, что спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Мария Кравцова: Вся описанная вами деятельность несколько превышает понятие «выставочный зал».
Сергей Сафонов: Да, мы поняли, что выставочный зал как структура не справляется со многим из того, чем мы уже и так занимается, и вообще это не его обязанности. Например, как государственному залу участвовать в ярмарках? Никак. Мы же не можем тратить бюджетные деньги на коммерческое мероприятие. И тогда мы сделали первые шаги к тому, чтобы создать ООО «Галерея Ковчег».
Мария Кравцова: Вы открывали площадку на волне перестроечного культурного подъема, кажется, недолгого. Каким был ваш зритель, и как он менялся в последующие эпохи?
Сергей Сафонов: Мы органично вписались в свойственный той эпохе интерес ко всему культурному и пропущенному, хотя на тот момент не знали ни про музей имени Игоря Савицкого в Нукусе, ни про искусствоведа Ольгу Ройтенберг. Это потом появилось объяснение, что название галереи «Ковчег» — про сохранение наследия, но тогда мы так не рассуждали (районные власти изначально предлагали назвать галерею «Дубки», а название «Ковчег» было предложено в качестве альтернативы. — Артгид).
Если говорить о зрителе, то в нашем случае это были прежде всего художники, коллекционеры. Мы появились как площадка, адресованная этому цеху и стремящаяся поддерживать цеховую солидарность. Но вообще, у нас довольно широкая аудитория. Кстати, чем бодрее название выставки, тем больше приходит людей. И галерейный опыт дал понять, что негативные названия работают хуже. Например, у нас была выставка «Страховой случай», на которой мы показывали очень странные вещи — полотна с сюжетами про укусы змей или наводнения, например. Но ее посещаемость была несопоставима с посещаемостью выставки «Сладкая жизнь». На «Марш энтузиастов» зрители тоже не особо спешили, а на недавнюю выставку «Казенный дом» приходили люди с понятным опытом, но никаких конфликтов не было, хотя я ожидал разной реакции. Выходит, зритель часто хочет бытовых радостей. Но это не значит, что выставкам нужно всегда давать сладкие названия.


Мария Кравцова: Современный коллекционер как-то отличается от коллекционеров, которых вы встретили в начале своей работы?
Сергей Сафонов: Многие коллекционеры, которых мы встретили в эпоху, когда начинали, были нашими единомышленниками. Например, коллекционеры Иосиф Масеев, с которым мы делали выставку к столетию Алексея Кравченко, или Семен Яковлевич Фельдштейн, собиравший русскую графику XX века. Последний в советское время работал инженером-строителем, вся его квартира была увешана произведениями Серебряного века, причем среди художников он предпочитал персонажей довольно экзотических. Например, целенаправленно коллекционировал художниц: Анну Остроумову-Лебедеву, Зинаиду Серебрякову, но при этом и Елизавету Бём, и Александру Платунову, и Лидию Полянскую… От него я узнал целый ряд имен, начиная, например, с Виктора Замирайло. Его коллекция была важна тем, что он собирал контекст времени, то есть его интересовала не ликвидность отдельных вещей, а именно совокупность. Это могли быть не самые эффектные работы, но удивительным образом они складывались в контекстуальную ткань.
Другим важным для нас человеком стал Александр Заволокин, который работал в Минкульте и много сделал для того, чтобы состоялась первая Московская биеннале. Создание биеннале он считал делом государственной важности и своей должностной обязанностью, но как человек из круга Татьяны Александровны Шевченко лично для себя собирал графику 1920–1930-х годов. Приходишь к нему домой, а он в трениках разглаживает утюгом рисунок очередного забытого художника.
У всех этих людей было очень личное, не связанное с коммерческими ожиданиями отношение к искусству. Но что произошло с их наследием и коллекциями? Вещи от Фельдштейна иногда появляются на рынке, коллекция Заволокина после его смерти продавалась большими кусками по совершенно бросовым ценам. Произведения часто переживают владельцев.
Потом, уже в 2000-х, появилось какое-то количество людей, которые вполне осмысленно покупали именно графику, ведь она более демократична в смысле цен. Они покупали, но не рассматривали эти вещи в качестве предмета оформления интерьера. Однако этот ручеек постепенно уменьшается, а на смену им приходят люди, которые показывают в телефоне фотографии квартиры и говорят, что хотели бы подобрать что-то под цвет дивана.
Мария Кравцова: Как они оказываются у вас? То, что вы представляете, довольно сложно использовать для оформления жилых помещений.
Сергей Сафонов: Не так давно мы делали выставку Артура Фонвизина. Оказалось, что у этого художника целая толпа фанатов, но Фонвизин в их сознании существует в системе художественных координат, совершенно отличной от нашей. Он располагается где-то рядом с Андриякой, с «красотой», а не в определенном историческом контексте. Хотя иногда к нам обращаются декораторы, которые хотят поработать с более качественным искусством, выдавая клиентам за интерьерную живопись работы Мая Митурича, например. Но это штучные истории.

Мария Кравцова: У вас есть опыт международных ярмарок. Понятно ли наше искусство советского времени за рубежом?
Сергей Сафонов: Мы всегда стремились к «здоровому образу жизни» и старались ездить на ярмарки и выставки в Германию, Литву, Финляндию, Швейцарию. Цели заработать мы не ставили, и, хотя что-то продавали, задача была показать «наших». И вот как-то в Финляндии нас пригласили на выставку «самого известного финского живописца». Я смотрел на его холсты и понимал, что без наличия местного мифа качество на работает. Не знаю, может быть, это ограниченность вкуса, но я так и не смог восхититься «лучшим живописцем» и понял, что мы такая же автономная, самодостаточная художественная система, как и все другие. И если у зарубежного художника нет хотя бы русской бабушки, он с трудом воспринимается местной публикой. Качество его работ не имеет тут никакого значения, а имеет — связь, пусть даже отдаленная, с локальным контекстом. Точно так же на зарубежных ярмарках у нас покупали не художника, а картинку, которая что-то напоминает. И с этим надо смириться. Это первое. Второе: у нас никто не заинтересован в том, чтобы выстроить полноценную историю искусства. Но если ее нет, то нечего транслировать и вовне. Мы очень боязливо работаем со сложившимися иерархиями. Когда-то мне казалась интересной идея сделать выставку Михаила Рогинского и Екатерины Григорьевой. Но чтобы такое произошло, должна быть еще и непредвзятость наследников и тех, кто распоряжается наследием, а это редко случается. Вообще, можно придумать миллион сюжетов на сопоставление, которые будут работать на выявление новых величин и пересмотр иерархий, однако в этом никто не заинтересован.
Мария Кравцова: Странно, мне казалось, что «Ковчег» — это в том числе и про переоткрытие и неожиданные контексты, как на выставке «Казенный дом».
Сергей Сафонов: Нам всегда было интересно, что происходит внутри каждой отдельной работы, и, на мой взгляд, это игнорирует большинство современных кураторов. Качество произведения заключается в его внутреннем содержании, а не только в том, как оно состыкуется с соседними. Но это не означает, что мы занимаемся исключительно выстраиванием в ряды священных коров. Один из первых конфликтов, связанный с неканоническим представлением об искусстве, произошел в 1992 году на выставке «Натюрморт: музей и мастерская». Впервые в нашей практике нам выдал работы музей «Новый Иерусалим», а Ольга Ройтенберг, с которой мы познакомились во время подготовки, дала какие-то свои вещи. Все вроде бы сложилось, правда, после открытия мы огребли от вдовы Владимира Вейсберга за то, что повесили его работы вперемешку с детскими рисунками.
Эта выставка состояла из нескольких уровней — мы показывали «искусство — искусство», детские работы и предметные натюрморты, которые попросили знакомых художников скомпоновать, как будто для работы, и поместить в разные углы зала. Мы исходили из того, что работа с натюрмортом начинается с постановки: Сезанн подкладывал монетки под яблоки, чтобы они оказывались на нужной ему высоте. А натюрморт является важной частью обучения рисунку и живописи. Так появились детские работы. Мне и сейчас нравится эта идея, но за «надругательство» над Вейсбергом нам сделали выговор. Понятно, чем было продиктовано это недовольство: детские вещи, особенно если они хорошие, часто забивают работы даже очень профессиональных авторов.
Я работал в детской изостудии в ДК «Серп и Молот», где были фонды детских рисунков разных десятилетий. К детским рисункам вообще два полярных отношения — или «дети рисуют гениально», или «дети рисуют одинаково». На самом деле ни то, ни другое, но среди их работ действительно можно найти вещи совершенно уникальные. Когда в перестройку к нам потянулись западные дилеры, в Москве появилось несколько мест, куда можно было отнести свои картинки для перепродажи. И я сделал в масле копии детских работ из тех, которые считал хорошими. Упорядочил спонтанный детский рисунок, перевел его в материал, сохранив композиционные и некоторые другие моменты. По сути, я использовал те же методы, что и в преподавании. Ведь преподаватель думает немного вперед ребенка: тот еще не сообразил, что надо сделать, а ты уже все понял и сказал «остановись здесь» или «переделай вот тут». Но написанные мной на основе детских работ вещи я все же не ощущал своими, и то, что они ушли за дикие по тем временам деньги — $400, — меня скорее напугало.

Мария Кравцова: Как вы сейчас видите «Ковчег» и его роль в современной московской художественной системе?
Сергей Сафонов: К нам наконец привыкли. Дело в том, что мы всегда были не очень понятными для галерейного сообщества, вернее, не укладывались в выработанные им критерии. Мы участвуем то в Антикварном салоне, то в «Арт-Москве» и Cosmoscow, где показывается современное искусство. И многим непонятно, каким искусством мы занимаемся — новым или старым. А на утверждение «Вы занимаетесь графикой» отвечаем, что в том числе и ей, хотя «Ковчег» не является «галереей графики». И так далее.
Если обобщать наш опыт, то нас всегда интересовала тема преемственности, развитие тенденций, которые в советском и даже постсоветском искусстве восходят к ВХУТЕМАСу и европейскому модернизму начала прошлого века. В этом коридоре можно показывать многих авторов, не ограничивая себя ни современным, ни старым искусством. Мы довольно рано поняли, что на сюжетной выставке вещи не всегда отвечают за тот период, в который они были созданы, и работами прошлого вполне можно комментировать современные ситуации. Например, показанные нами четверть века назад на выставке «Образы НЭПа» шаржированные персонажи 1920-х годов абсолютно попадали в эпоху «малиновых пиджаков».
Мы всегда любили показывать неканонические, странные, даже порою одиозные вещи, что расширяло наш диапазон. Например, как-то подбили музей Пушкина сделать выставку «Время берез». С одной стороны, она была про типичный для нас пейзаж, а с другой — про важную составляющую ментального кода. Мы показали знаменитую картину Марата Самсонова с Кастро и Хрущевым среди берез («Н.С. Хрущев и Ф. Кастро в березовой роще». — Артгид), телевизоры «Березка», слонов из бересты, что-то из магазинов «Березка» и так далее. И одни люди уходили с нее со словами «Как здесь душно!», а другие — «Здесь дышится, как в березовой роще»…



Мария Кравцова: По-вашему, выставка — это что?
Сергей Сафонов: Выставка — это высказывание на актуальную тему художественными средствами. «Барахлит городок» (2020) — о постепенном отчуждении города, в котором живешь, и о том же «Мы жили в Москве» (2010). «Марш энтузиастов» (2007) — об изображениях трех форм скопления людей в отечественном искусстве: строй, очередь, толпа. «Сто лет с огоньком» (2002) — эволюция образа курильщика, «Кафка» (2015) — тоже понятно… Тема постепенно кристаллизуется в разговорах, в новостях, в какой-то момент тебе в руки попадает первая папка с рисунками или альбом, но ты не понимаешь, как дорастить этот материал до полноценной экспозиции. Так, выставка «Казенный дом» началась с того, что я увидел тюремные рисунки Юрия Макарова, о котором ровно ничего неизвестно. Делать его персоналку было бы скучно и неинтересно, но за год мы собрали материал, посвященный тому, что у нас принято именовать «казенным домом». Кстати, это не всегда тюрьма. Другая выставка — «Художники пишут картины» (2023) — состояла из рабочих рисунков, на которых художники писали словами, какой здесь или в другом месте должен быть цвет. Я не понимал, зачем они это делают, — есть же зрительная память, — но сам прием показался мне интересным. И в том, что такие рисунки встречались у не знакомых друг с другом авторов разных поколений, просматривалась закономерность. Хотя с точки зрения рынка подобные выставки — совершенно бессмысленная затея. Но в этом весь «Ковчег».




