Критический угол
В надежде написать «критическую историографию» исследований позднесоветского неофициального искусства Георгий Соколов обращается к работам одной из наиболее артикулированных и значительных исследовательниц этого феномена. Разбирая как хрестоматийные книги Екатерины Андреевой («Постмодернизм», «Всё и ничто» и «Угол несоответствия»), так и новейшие издания («Параллельные современности», «Мультиэкранное время», «100 лет современного искусства Петербурга»), автор описывает основы концепций и методов Андреевой, а также критически рассматривает некоторые аспекты встраиваемой ею системы знания о нонконформизме как современном искусстве.
 Эдуард Штейнберг. Абстрактная композиция. Февраль. 1970. Холст, масло. Фрагмент. Собрание Дениса Химиляйне
Эдуард Штейнберг. Абстрактная композиция. Февраль. 1970. Холст, масло. Фрагмент. Собрание Дениса Химиляйне
Вступление
Сегодня не написана (и не очень-то пишется) история истории искусства на русском языке — то есть рефлексия языков, канонов, концепций искусствознания. Подобная работа может, на первый взгляд, показаться вариантом игры в бисер: искусствознание об искусствознании, рекурсия, слоновая кость и высокая башня. Это не совсем так: понимание того, как изучалось и мыслилось искусство, а еще того, как складывался язык, которым при этом пользовались, ведет к постановке более серьезных (и более общих) вопросов о культуре исследуемых эпох. А если разбирать недавнее прошлое, то и получится, что в конечном счете мы нашли новую (может быть, довольно замысловатую) дорожку к разговору о сегодняшнем дне.
Собственно, именно условно недавний период — примерно три-четыре последних десятилетия исследований искусства — кажется мне особенно важным. Важность этого временного промежутка определяется не только его хронологической близостью к нам. Не стоит забывать, что именно с перестройки (начальной точки подразумеваемого мною периода) думание об искусстве на русском языке сталкивается с новой реальностью, в которой старых и привычных проржавевших каркасов нет, они даже не рушатся, а будто проходят, как горячка или пустой сон. Больше не надо противопоставлять «модернизм» и «реализм», схлестывать «реакционное» искусство с «демократическим», «народным», «прогрессивным». Такая свобода, правда, имела побочные эффекты: приходилось за что-то хвататься, а заодно — перепридумывать историю искусства почти с чистого листа, и главным образом это касалось искусства советского и российского (с «зарубежным» все-таки попроще: о нем можно было хотя бы почитать хорошие книжки на иностранных языках).

Необходимость новой истории и новых канонов (или хотя бы критического тыкания старых) была связана, конечно же, с раздвоенностью искусства, прежде всего советского периода, когда его андеграундная версия существовала одновременно с «наземной». Когда в поздние 1980-е неофициальность искусства перестала что-либо о нем говорить и что-то в нем определять, когда неофициальное искусство оказалось на поверхности, следовало писать историю, которая бы его «учла». Это сразу же привело к возникновению целого вороха проблем, в первую очередь концептуального свойства — и сегодня они не кажутся менее острыми. Дело не только в том, чтобы разграничить или даже переопределить старинные устрашающие конструкции вроде «авангарда» и «соцреализма», а заодно непротиворечиво сплести их с послевоенным модернизмом. Сам этот поздний андеграундный модернизм следовало осмыслить как целое. Причем уже на раннем этапе историографии «другого искусства»[1] стало ясно, что воспользоваться какими-либо готовыми схемами — скажем, вполне к тому времени разработанной схемой истории искусства модернизма-постмодернизма в Европе и США — не получится. Приходилось что-то «изобретать», например, помещая те или иные процессы либо отдельные феномены в центр и выстраивая вокруг них концептуальную рамку. Мне кажется, именно из этой зоны напряжения, из пересечения «вертикальной» истории современного искусства (где движение происходит от одного формально-концептуального новаторства к другому, и важно не забывать, что речь о генеалогии, то есть следующее так или иначе рождается из предыдущего) с упрямыми реалиями искусства позднего СССР (от условной «оттепели» и до конца) и возникает новый, концептуализмоцентричный канон. Концептуализм[2], в отличие от другого неофициального искусства, не «отстает» в таких критериях от гонки новаторств, а значит (следует вывод), он и является наивысшей точкой российского-советского искусства второй половины прошлого столетия и наиболее интересной его частью. Впрочем, в контексте настоящей статьи это — всего лишь отступление.
Историография позднесоветского искусства прошла через несколько важных этапов. Каждый из них отмечен монографией (а то и несколькими) крупнейших исследовательниц и исследователей, среди которых можно навскидку перечислить «От единства к многообразию. Разыскания в области “другого” искусства 1950-х — 1980-х годов» Карла Аймермахера (на русском вышла в 2004 году, но отдельные статьи появлялись раньше, на протяжении 1990-х[3]), «Русское искусство XX века» Екатерины Деготь (2001), «Угол несоответствия. Школы нонконформизма: Москва — Ленинград, 1946–1991» (2012) Екатерины Андреевой и «Чужие? Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции» Екатерины Бобринской (2013), Moscow Vanguard Art Маргариты Тупицыной (2017), хотя ими список далеко не исчерпывается. Все эти книги оказали существенное воздействие на то, как мыслится история искусства обсуждаемого периода и в широком контексте, и в узкоспециализированном. Тем не менее до сих пор не существует полномасштабного критического обзора этого пласта литературы, как и было сказано в самом начале. Впрочем, есть отдельные значимые попытки — например, «историографическая» секция в теоретическом введении в Оксфордский путеводитель по культуре советского андеграунда[4].
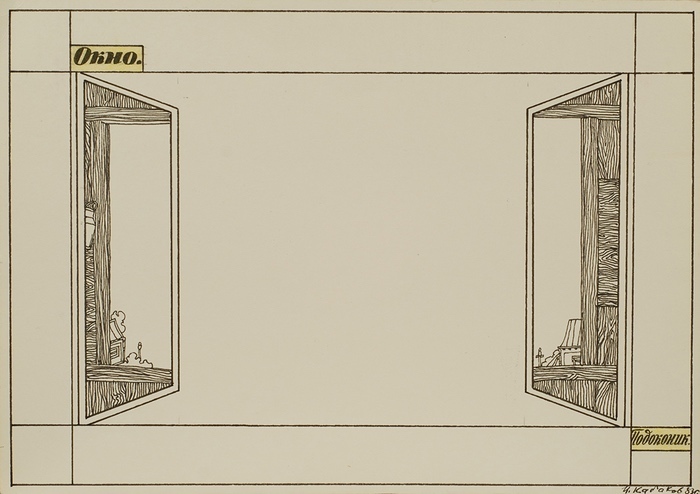
Здесь, в рамках разговора о неофициальной культуре, который мы уже почти год ведем на электронных страницах «Артгида», кажется более чем уместным попробовать хотя бы обозначить указанную проблему. У этого формата есть важное преимущество: мы можем позволить себе не отсекать углы для того, чтобы втиснуться в гладкие рамки диссертаций или иных «жанровых» текстов. Я далек от мысли, что за одну или две (или десять) статьи можно разобраться со всеми важными поворотами, аналитическими и методологическими находками, большими и малыми концепциями. Совсем наоборот, мне кажется более плодотворным подойти к этой работе с большей скрупулезностью и более точным прицелом — и концентрироваться в каждом отдельном тексте на одном важном исследовательском проекте.
Концепции и методы Екатерины Андреевой[5]
Формальным поводом для обращения к работам и методу Екатерины Андреевой можно считать невероятно выросшую в последние годы плотность изданий и переизданий ее книг. Уже в 2021 году вышло сразу несколько из них: сборник статей «Параллельные современности. Тексты о российском искусстве 1980–2010-х годов», монографическое исследование творчества Ивана Сотникова, «Роман» художника Марка Петрова с андреевским предисловием[6]. А за одну только прошлую осень можно насчитать еще больше наименований: книги статей «100 лет современного искусства Петербурга. 1910–2010-е», «Мультиэкранное время. Искусство 1910–2010 годов» и (что, может быть, еще примечательнее) переиздания эпохальных работ «Всё и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века» (уже четвертое издание) и «Угол несоответствия».
Но формальные поводы — это ерунда, отметка, аннотация. Важнее сущностные аспекты, которые подталкивают к тому, чтобы критическую историографию исследований советского искусства начать именно с корпуса трудов Андреевой. Дело не только в том, что ей принадлежит одна из самых влиятельных монографий, без которых сложно представить само поле этих исследований (речь о вышеупомянутом «Угле несоответствия»). Нужно понимать (и помнить), что Андреева была в числе первых исследователь_ниц неофициального искусства, при ее непосредственном участии дискуссия начиналась на своем новом, перестроечно-постсоветском этапе. Именно она (наряду с другими перечисленными во вступлении авторами) во многом определила то, какой эта субдисциплина рождалась на свет.

Наконец, самое существенное — кажется, никто, кроме нее, по-настоящему не выстроил из собственных штудий неофициального искусства настолько всеобъемлющий исследовательский проект. Когда другие рецензенты пишут[7], что Андреевой повезло с публикациями как мало кому, они упускают из виду, что дело не в их количестве или частоте (и даже не в числе переизданий, которое, впрочем, тоже имеет значение). Книги Андреевой «покрывают» историю (и во многом теорию) основных течений западного модернизма и постмодернизма, вписывают советское неофициальное искусство в международный контекст («Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ — начала XXI века», «Всё и ничто»), демонстрируют общую канву развития искусства советского нонконформизма в двух крупных его центрах («Угол несоответствия»), разбираются с положением в современном российском искусстве («Параллельные современности»). Кроме того, исследовательница уделяет внимание связям между искусством первой и второй половин ХХ столетия («Всё и ничто», «Мультиэкранное время» и «100 лет современного искусства Петербурга»). Можно увидеть систему в подробностях, если смотреть на общую картину.
Еще до «Угла несоответствия», в 2007 году, вышла книга Андреевой «Постмодернизм» (написана в 2004–2005 годах). Эта работа — которая, к слову, тоже давно требует переиздания, поскольку превратилась в библиографическую редкость, — была задумана как финальный том большого проекта «Новая история искусства», созданного Сергеем Даниэлем. Задача написать историю искусства второй половины ХХ века подразумевала некоторую всеобъемлемость, заметную в книге Андреевой. Эта работа заслуживает подробного рассмотрения: уже многослойные и насыщенные теоретические введения надолго захватывают внимание. Но для целей настоящего разговора можно ограничиться одной важной чертой книги: в историю современного искусства Екатерина Андреева твердой рукой вписывает советских неофициальных (а иногда и официальных) художников. Причем речь не о случайных упоминаниях. Подход исследовательницы вполне системный: имена советских и российских художников встречаются в разделах о послевоенном экспрессионизме, о новых измерениях абстракции, о поп-арте, оптическом искусстве, гиперреализме; без них невозможен разговор о неоэкспрессионизме последней четверти столетия, об «эскапизме» и «апроприации истории». Ими наполнен рассказ о «героическом постмодернизме», а «Горизонтам» Тимура Новикова посвящена целая подглава. Оставим за скобками постсоветские десятилетия — в этом месте российские авторы заполняют уже совсем значительное пространство.

Андреева отчетливо демонстрирует, что многие важнейшие тренды в искусстве второй половины ХХ века проявились и в советском искусстве, несмотря на его изоляцию и видимую невключенность в мировой художественный процесс. При этом обращает на себя внимание, что почти во всех случаях советские авторы представлены отдельно от общего нарратива. Иногда на ум приходит невольная аналогия с советскими и российскими учебниками истории, где в конце каждого раздела пара абзацев отведена под перечисление основных имен и событий по теме «Культура». Такая отделенность показывает, на мой взгляд, что собственно задача концептуализации истории советского (неофициального) искусства Андреевой не решается, причем исследовательница дистанцируется от нее сознательно. Разумеется, она делает необходимые оговорки, описывая практики советских художников в контексте проблем и трендов их западных коллег, но разрыв все равно слишком чувствителен: порой кажется, что различий гораздо больше, чем сходств, и разговор о «советском поп-арте» или других подобных кадаврах будто бы не имеет особенного смысла.
Легитимируя и расконсервируя позднесоветское искусство, вынимая его из привычного герметичного внутреннего контекста и помещая в куда более широкий, Андреева совершает трансгрессивное действие, которое следует рассматривать на фоне часто повторяющихся в литературе высказываний о «провинциальности» позднесоветского искусства по сравнению с современным ему европейским или американским. Подобные утверждения берут начало собственно внутри рассматриваемого периода (можно, уже не впервые, вспомнить пресловутые отклики в американской прессе на небольшую выставку нонконформизма в MoMA). На английском языке эта проблема обозначается емким словом belatedness, то есть «отсталость», с неизбежными импликациями гонки, в которой есть опоздавшие. И если, скажем, другая крупная исследовательница неофициального искусства, Екатерина Бобринская, предпочитает, используя осторожные формулировки, отставлять эту проблему в сторону[8], то Екатерина Андреева однозначно демонстрирует, что, если сверять даты, разрыв оказывается совсем не столь драматичным, а во многих случаях и вовсе отсутствует.

Следующий шаг в этом направлении сделан в «Угле несоответствия»: «Изучение истории нонконформизма доказывает параллельность многих поисков и открытий западного актуального искусства и андеграунда в СССР в 1960–1980-е годы»[9]. Теперь Андреева прямо утверждает то, что в «Постмодернизме» было показано скорее имплицитно. И хотя обоснование параллельности между советским нонконформизмом и западным искусством достаточно неопределенно и использует естественнонаучную метафору «почвы» («…главные художественные идеи нонконформизма… происходили из общей почвы мирового искусства ХХ столетия»[10]), вывод оказывается по-настоящему остр и играет, видимо, роль сверхзадачи книги: «Ценность нонконформизма для всей советской культуры как раз и состояла в том, что он стремился принадлежать современности и миру…»[11]
Таким образом, позднесоветское искусство — или, точнее, одна его часть, поскольку Андреева (в начале карьеры интересовавшаяся исследованиям соцреализма[12]) не забывает, что нонконформизмом художественный процесс в СССР не исчерпывается, — не просто оказывается включено в общемировую историю культуры. Оно приобретает важную характеристику, которая позволяет найти ему историческое место, соотнести с эпохой, региональными и международными контекстами, а также дает возможность выяснить его отношения с авангардом и соцреализмом. По Андреевой, советский нонконформизм — современное, актуальное искусство.
Трудно переоценить значимость этого вывода. На всякий случай прочитаем определение актуального искусства, предложенное исследовательницей в более ранней работе. Андреева дает его в одном из первых примечаний все в том же «Постмодернизме», который задумывался как посвященный именно «актуальному искусству»: «Понятие “актуальное искусство” образовано от немецкого “aktuelle Kunst”, что подразумевает искусство современное и “злободневное”. Понятие “актуальное искусство” может заменять понятия “авангард”, “модернизм” для первой половины ХХ века и “постмодернизм” применительно ко второй его половине»[13]. То есть, с одной стороны, нонконформизм продолжает авангардно-модернистское движение в обновлении формы — это особенно органично на фоне утверждения, что такое обновление у неофициальных художников не отставало по времени от обновлений на Западе, — а с другой, оказывается на «полистилистической», критической позиции, характерной для постмодернизма.

Оставим в стороне вопрос о том, насколько такое определение постмодернизма (которое можно найти в том же примечании из книги Андреевой) действительно соотносится с советским искусством (московско-ленинградским, поскольку за пределы двух центров исследовательница не выходит), тем более этот вопрос уже так или иначе обсуждался по многим поводам. Важнее отметить другое: начиная «Угол несоответствия» с программного провозглашения нонконформизма современным искусством, Андреева в то же время ясно произносит, что не претендует на написание истории явления — хотя все три основные главы книги построены в строго хронологическом порядке.
Проблема истории нонконформизма остается по-настоящему не решенной — и не только из-за отказа исследовательницы писать эту историю. В конце концов, отказ можно прочитать как риторический, освобождающий Андрееву от необходимости объять все, включая колоссальный материал по другим регионам, который ни к моменту написания ее книги, ни сегодня еще не собран и уж точно не обработан в сколько-нибудь подходящем объеме[14]. Я говорю о другом — о том, как выбран материал и как построен нарратив (потому что речь именно о нарративе).
Обосновывая использование термина «нонконформизм», Екатерина Андреева, однако, предпочитает не углубляться в терминологические дискуссии. Это понятно: в них можно сломать не только ногу, но и голову, а единого для всех удовлетворительного решения так и не найти. Тем не менее можно предположить, что сопоставление с современным искусством служит некоторой границей, которая для Андреевой отделяет нонконформизм от «просто» неофициального искусства. Круг художников и художественных направлений, охватываемых в ее текстах о московском и ленинградском искусстве, по-видимому, должен соответствовать ее пониманию современности — и негласно отвечать на возможные вопросы читателей (возникающие почти всегда), сконструированные по типу «а почему у вас в книге нет художника имярек?».

Вроде бы все вполне логично. Тем не менее недостаточно эксплицированные критерии могут смазать впечатление. Особенно в этом смысле характерна ленинградская часть, поскольку в ней Андреева проводит «энергетическую линию» экспрессионизма, ведущую от экспериментов авангарда и модернизма первой половины ХХ века к определенным художникам и явлениям второй половины минувшего столетия. Эта линия собрана в первую очередь самой Андреевой — начиная с составленного ею раздела про «газаневскую культуру» на выставке «От неофициального искусства к перестройке. Из истории художественной жизни Ленинграда. 1949–1989» (1989). Уже в формулировке кураторских задач, которые она ставила для себя при подготовке выставки, ясно прочитывается и ее исследовательская программа: «Меня интересовало не уравнивание в правах официальной и неофициальной культуры, а построение такой истории искусства, в которой читалась бы энергетическая линия ленинградского экспрессионизма от авангарда и “Круга” к арефьевцам и “Новым художникам”»[15]. Учитывая множество других ее публикаций и выставочных проектов, можно сказать, что именно усилиями Екатерины Андреевой сформировался некоторый канон ленинградского неофициального искусства, весьма заметный и значимый в дискурсе о нем. Это одновременно итог колоссальной работы и некоторое затруднение для тех, кто сейчас или в будущем решит составить впечатление о ленинградской культуре по книгам Андреевой. Ее пантеон отчетлив, и о многих входящих в него художниках именно она написала первой — или выступила создательницей наиболее существенных работ: к таким фигурам относятся, например, Соломон Россин или Евгений Михнов-Войтенко, а корпус ее текстов о Тимуре Новикове, пожалуй, перевешивает все остальное, написанное о нем. При этом, как и всякий иной пантеон, он завязан на конкретных иерархиях и верах, а потому субъективен и неполон.
С московской «школой» (еще одно проблемное понятие) будто бы несколько проще, хотя и здесь, как в случае с Ленинградом, гораздо меньше пространства в нарративе Андреевой получают сюрреалисты всех мастей. «Сюрреалистов», конечно, надо писать в кавычках или со звездочкой: речь идет о некотором усредненном сюрреализме, скорее о манере, чем о сущности одноименного явления из истории предвоенного искусства. По всей видимости, отсутствие интереса к нему у исследовательницы связано как раз с его усредненностью: ей важны явления незаурядные, выделяющиеся на общем фоне. Ее история — еще и критика: Андреева естественным образом выстраивает иерархии. В данном случае в этом, на мой взгляд, нет ничего плохого — стратегия вполне легитимная. А если еще и не забывать, что историография советской неофициальной культуры лишь формируется (до сих пор!), то все окончательно встанет на свои места: без подобных распорок, без строгого каркаса трудно было бы двигаться дальше. Усилиями таких монографий, как «Угол несоответствия», мы подобный каркас обрели.

Проблема мне видится не в самом выстраивании каркаса — больше беспокоит имплицитность этого процесса, отсутствие рефлексии над тем, как и почему те или другие критерии становятся решающими при «отборе». Некоторые подразумеваемые системы координат, которые служат здесь фундаментом, тоже не проговариваются: например, некое эссенциалистски понятое «советское», выступающее как абсолютная альтернатива, как темная сторона культуры, как то, от чего нонконформизм отталкивается и чему внеположен, — это самое «советское» почти никак не определено.
Затруднение для меня кроется и в метафорах вроде «почвы» (см. выше в цитате из «Угла несоответствия») — мировой или гравитационного поля ленинградской культуры. В подобных определениях отчетливо пахнет духом времени, той самой категорией, которую критиковал в применении к истории культуры Эрнст Гомбрих[16]. Андреева не просто говорит о том, что некоторые художественные формы или принципы были восприняты художниками «из воздуха» (или атмосферы), а прямо подчеркивает предпочтение такого объяснения попыткам проследить конкретные механизмы передачи «энергетической линии»: «В искусстве Ленинграда на переходах от 1910-х к 1920-м и далее к 1930-м, 1940-м, 1950-м, 1970-м годам наблюдается не столько наследование в рамках школ и институтов, сколько свободный ток творческой энергии, ее передача заумным — нерегистрируемым от учителя к ученику — путем»[17]. Парадоксально при этом, что в работах Андреевой довольно много внимания уделено проблеме связи между периодами и поколениями. Помимо процитированной статьи — нового текста под названием «“Расширенное смотрение”: искусство модернизма в Ленинграде середины 1920-х — начала 1950-х годов» (впервые опубликован в 2023 году в книге «Мультиэкранное время»), — можно вспомнить большую, программную работу, которой открывается еще одна ключевая андреевская книга «Всё и ничто», — это глава «От Малевича к Хармсу: будущее в прошедшем».
Здесь Андреева, начиная загодя, с постановки «Победы над Солнцем» в 1913 году (и даже кое-где отступая еще на шаг-другой вглубь), постепенно и мастерски выстраивает сложную, многосоставную сеть интеллектуальных, спиритуальных и других контекстов и оснований для некоторых ключевых авангардных художественных событий, от 1910-х к 1930-м и далее. На этом фоне сопряжение практики и теории Владимира Стерлигова с идеями Даниила Хармса и Леонида Липавского выглядит вполне естественным, и как раз довольно конкретно — при всей почти неохватной объемности контекста — демонстрирует связь, выживание[18] авангардных идей. Если держать в голове этот фундамент (что несложно: «Всё и ничто» недавно издана, как я уже отметил, в четвертый раз), рассуждения про «энергию» и «культурную атмосферу» уже не кажутся совершенно беспредметными.

Тем не менее в более поздних текстах, некоторые из которых включены в два единовременно вышедших сборника статей Андреевой — «100 лет современного искусства Петербурга» и «Мультиэкранное время», — гораздо большее внимание уделяется проблемам «объективной формы» и «гения места» в практике ленинградских авторов. Художники, пишет Андреева, находятся в «универсальной связи с мировой культурой и авангардом»[19], но она не считает необходимым уточнять, как такая связь конструируется на повседневном, бытовом уровне.
Именно это приземленное, фактологическое измерение — то, чего недостает в работах Екатерины Андреевой. «Дух времени», равно как и «гений места», — слишком простое и оттого слишком соблазнительное объяснение. Разумеется, сама Андреева использует эти категории не потому, что избегает сложности, совсем наоборот, глубину ее познаний в философии и интеллектуальной истории нельзя переоценить. Но мощнейший фундамент Андреевой — то, чего может не хватать большинству ее последователей. Для них (нас?) «простые» формулы по-настоящему опасны.
Поэтому сегодняшним исследователь_ницам во многом интереснее и важнее кажется пристально разглядывать связи и институты, механизмы передачи интеллектуальных и художественных представлений от учителя к ученику или через те или иные посреднические фигуры, а также материальные и иные повседневные условия, определяющие работу таких механизмов. И все это было бы невозможно без корпуса работ Екатерины Андреевой, которые можно продолжать читать с карандашом, неизменно вынося оттуда новые и новые полезные, фундаментальные для науки о неофициальном советском искусстве факты, категории и концепции.
***
В качестве эпилога мне кажется важным коротко обозначить мои собственные отношения с темами, методами и подходами Екатерины Андреевой. Именно ее научная и кураторская работа стала отправной точкой моего интереса к ленинградскому неофициальному искусству в частности — и к позднесоветской культуре вообще. Мне уже доводилось печатно говорить о том, что, несмотря на отсутствие формализованных ученических взаимоотношений с Андреевой, я все же считаю себя ее учеником. И мои собственные работы отражают многие описанные выше особенности научного творчества этой выдающейся исследовательницы (так, в моей книге, по ироничному выражению приятеля, изображено «рождение ленинградского неофициального искусства из духа Блокады», то есть — снова здравствуйте! — zeitgeist на марше). Именно поэтому для меня так важно не просто сделать обзор достижений и наработок Андреевой, но и обозначить точки, где ее метод и взгляды кажутся мне более уязвимыми. Так что этот текст — в том числе рефлексия над собой, и потому глубоко личный.
Примечания
- ^ «Другим» это искусство было провозглашено на выставке коллекции Леонида Талочкина, прошедшей в Третьяковской галерее в 1990–1991 годах. Двухтомный каталог выставки (переизданный единым томом в 2000-е) до сих пор является одним из важных справочников для исследователей советского неофициального искусства. Это событие стало безусловно одним из важнейших в формировании искусствоведческого канона представлений о нонконформистском искусстве.
- ^ Обычно, конечно, «московский», но некоторые современные исследователи ставят легитимность этого эпитета под сомнение.
- ^ Forbidden Art: The Postwar Russian Avant-Garde. Los Angeles: Curatorial Assistance; N.Y.: In association with Distributed Art Publishers, 1998.
- ^ Theoretical Problems of Soviet Underground Culture // The Oxford Handbook of Soviet Underground Culture / Ed. by Mark. Lipovetsky, Ilja Kukuj, Tomáš Glanc, Maria Engström, Klavdia Smola. N.Y.: Oxford University Press, 2021 (Oxford Handbooks Online).
- ^ Хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить Анастасию Хаустову, в конце 2021 года первой подсказавшую мне идею текста, обозревающего научное творчество Екатерины Андреевой.
- ^ И это если не учитывать (разговор у нас все-таки об исследованиях) книгу прозы Андреевой, переизданную тогда же.
- ^ Леденев В. Зримое искусство и незримая энергия питают друг друга // The Art Newspaper Russia, №115, 2023. URL: https://www.theartnewspaper.ru/posts/20231006-ymdp/.
- ^ Бобринская отмечает: «Следы влияний или даже прямых заимствований очевидны в работах многих неофициальных художников», и признает, что «…неофициальное искусство было в большей мере сосредоточено на решении локальных проблем». Тем не менее, как она пишет далее, в нем «…слышна самостоятельная интонация, попадающая в резонанс со многими ключевыми проблемами мирового искусства того времени». Несмотря на то, что в главном ее вывод совпадает с выводом в работах Андреевой, Бобринская не делает на этом акцента: осторожные формулировки помогают уйти от прямого ответа на вопрос об «отсталости» и взаимоотношениях между неофициальным советским и зарубежным современным искусством. См. Бобринская Е.А. Чужие? Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции. М.: Бреус, 2013. С. 16.
- ^ Андреева Е.Ю. Угол несоответствия. Школы нонконформизма: Москва — Ленинград, 1946–1991. М.: Искусство XXI век, 2012. С. 14 (далее – «Угол несоответствия»; вообще в тексте ссылки на книги Андреевой будут даваться только в виде названия, за исключением особых случаев).
- ^ Угол несоответствия. С. 13.
- ^ Там же. С. 15.
- ^ Андреева Е. Советское искусство 1930-х — начала 1950-х годов: образы, темы, традиции // Она же. Соцреализм: от расцвета до заката. СПб.: Jaromir Hladik press, 2019. С. 7–23. Первоначально статья опубликована в журнале «Искусство», 1988, №10. О своем интересе к соцреализму на рубеже 80–90-х Андреева пишет в биографической (и автобиографической) статье в составленном ей сборнике материалов о Тимуре Новикове: «…меня тогда [т. е. «около 1987 года». — Г. С.] волновали проблемы сталинского искусства и живопись Соломона Россина» (Екатерина Андреева. Материалы к биографии Тимура Новикова // Тимур. «Врать только правду!» СПб.: Амфора, 2007. С. 416. Там же, на странице 419, Андреева упоминает статью о соцреализме, ссылка на которую приведена выше (далее «Врать только правду!»).
- ^ Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ — начала XXI века. СПб.: Азбука-Классика, 2007. С. 392.
- ^ Исключение — Свердловск и в меньшей степени Саратов. Неофициальная художественная жизнь этих городов на сегодняшний день описана исследователями сравнительно объемно и подробно.
- ^ Врать только правду! С. 424.
- ^ Gombrich E. In Search of Cultural History // Gombrich E. Ideals and Idols. Essays on values in history and in art. N.Y., Oxford: Phaidon, 1979. P. 24–59.
- ^ Андреева Е.Ю. Мультиэкранное время. Искусство 1910–2010 годов. СПб.: ДА, 2023. С. 39.
- ^ Именно так понятие nachleben, употреблявшееся Аби Варбургом для обозначения способа существования античной культуры в ренессансной Европе, переведено в сборнике «Мир образов. Образы мира» (сост. Н. Мазур).
- ^ Андреева Е.Ю. 100 лет современного искусства Петербурга. 1910–2010-е. М.: Новое литературное обозрение. С. 52. Кстати будет отметить в связи с тем, что термин «авангард» используется, очевидно, как универсальный, внеисторический, описывающий «актуальное» искусство: в «Постмодернизме» подобное словоупотребление и стоящая за ним иерархия уже были заявлены. Утверждая, что «актуальное искусство» существовало и в первой половине ХХ столетия, и во второй, Андреева выбирает направление в обширной дискуссии по этой теме, существующей в литературе. «Актуальность» — тоже неопределенная категория (да и «авангард» не получает здесь трактовки), но именно она — критерий важности и современности.




