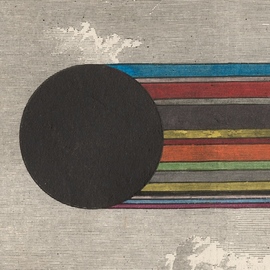Трансфинитные конкреции
Продолжая разговор о происхождении позднесоветского абстрактного искусства, Георгий Соколов обращается к уникальному для первого поколения нонконформистов совпадению: Владимир Слепян и Евгений Михнов-Войтенко выступают создателями собственных, достаточно связных и последовательных теоретических построений, между которыми обнаруживаются примечательные сходства и параллели.
 Евгений Михнов-Войтенко. Абстрактная композиция. 1959. Холст, нитроэмаль. Фрагмент. Источник: vladey.net
Евгений Михнов-Войтенко. Абстрактная композиция. 1959. Холст, нитроэмаль. Фрагмент. Источник: vladey.net
На первый взгляд, зерно моего текста, вышедшего в конце июня, — небольшая черно-белая фотография, воспроизведенная в небольшой черно-белой книжке. В неясной местности не очень городского облика видны (не вполне отчетливо) два молодых человека, один из которых — совершенно точно московский художник Юрий Злотников, а второй — «неизвестный», как гласит подпись к снимку в его единственной на данный момент книжной публикации. Но если присмотреться, то может показаться, что это — другой художник, уже ленинградский — Евгений Михнов-Войтенко.
Диспозиция, соблазнительная для исследователей: на одной фотографии, вопреки всей сумме наших знаний — авторы двух наиболее оригинальных абстрактных художественных систем в советском искусстве второй половины ХХ века. Их предположительное знакомство легко может породить спекуляции на тему общих (хотя бы до некоторой степени) истоков «Сигналов» и «Тюбиков». И те, и другие легко находят себя в ряду наиболее новаторских произведений современного им западноевропейского и североамериканского искусства — среди работ парижских «новых реалистов» или нью-йоркских художников, занявших в хронологии важнейшее место между абстрактным экспрессионизмом первого поколения и поп-артом.
Но искать визуальные сходства и общие «истоки» мы не станем. Тем более что это ключевое звено — знакомство Злотникова и Михнова — еще не может считаться совершенно доказанным. Именно атрибуция Михнова на этом старом снимке (который я, к тому же, не видел «в оригинале» — только в указанной книжной публикации) вызвала за прошедший месяц наибольшее количество вопросов у моих собеседников. Никто ее не опроверг — хотя бы потому, что опровержение так же технически затруднительно, как и доказательство. Тем не менее неопределенность и небольшая трещина неуверенности неизбежно остается, ведь присутствующих на фотографии уже нет в живых, а только их личное свидетельство, пожалуй, могло бы считаться железобетонным. Более достоверные факты упрямы: в последующие десятилетия они ни разу не упоминали имена друг друга (во всяком случае записей и свидетельств не сохранилось), жили в разных городах, да и вообще особенно не пересекались. Поэтому невозможно строить сколько-нибудь весомую аргументацию, основываясь на их знакомстве.

При более внимательном рассмотрении оказывается, что верность этой одной-единственной атрибуции не имеет по-настоящему существенного значения в конструкции моего аргумента — ее опровержение ничего не нарушает и не разрушает. Для того чтобы показать, что происхождение послевоенной советской абстракции сложнее и интереснее, чем ленивая формула «влияния фестиваля и выставок», совсем не обязательно узнавать кого-то на фотографиях. Михнов и Злотников имеют между собой совершенно конкретного посредника — Владимира Слепяна: их знакомство с ним неоспоримо. И именно это знакомство играет ключевую роль. Держа в уме конкретные линии связей между тремя художниками, легко увидеть: для их искусства характерно то, что можно условно назвать методологическим измерением. Иными словами, они разрабатывали свои визуальные языки не столько исходя из визуальных же влияний, сколько основываясь на разработанном ими прежде или одновременно методе. Именно метод они, должно быть, увидели в практике Джексона Поллока, которую Слепяну описал Давид Бурлюк.
Подтверждением важности для Злотникова, Михнова и Слепяна продуманного и разработанного метода служит тот факт, что все трое уже на раннем этапе своей практики выработали и зафиксировали собственные художественные теории[1]. Это особенно интересно, если вспомнить, что теоретизирование для советских нонконформистов, особенно для тех, чей творческий путь начинается в 1940–1950-е годы, не было обычным делом. Теории возникают значительно позднее, в кругу «московского концептуализма», где рефлексия языка и рассуждения об искусстве становятся неотъемлемой частью собственно культурного производства. Ранний же этап неофициального искусства в воспоминаниях его деятелей как раз и характеризуется отсутствием ясных ориентиров, некоторой неотчетливостью стремлений или определением сущности искусства от противного. Оскар Рабин неоднократно говорит о «работе с натуры» как основополагающем принципе, по крайней мере в начале его карьеры (можно вспомнить историю о конкурсе на участие в Фестивале молодежи и студентов, произвести «модернизм» для которого он смог, только ориентируясь на рисунки дочери как на модели для примитивистских опытов), а Александр Арефьев указывает (говоря за себя и близких ему художников), что «никто из нас не был формалистом»[2], опять-таки декларируя верность «натуре». Однако этот «натурный» принцип следует трактовать скорее как наследие советской художественной школы или советского официального языка об искусстве, чем как некоторое самостоятельное, отрефлексированное теоретическое положение.
На фоне подобных рассуждений и представлений, а также примерно такой же «стихийности» при возникновении других «ветвей» позднесоветской абстракции особенно неожиданно выглядит теоретизация со стороны Михнова и Слепяна. Оба художника не рассуждают об искусстве отвлеченно, но помещают свои выкладки в контекст истории культуры. Обоим важно понять, чтó искусство может и должно делать именно сегодня, каким ему следует быть в конкретный момент и конкретных обстоятельствах.

Из двух теоретических проектов наиболее артикулированный (и опубликованный) разработал Владимир Слепян. Как я отмечал в прошлом тексте, он был активным куратором, мыслителем и культуртрегером. Поэтому неудивительна его публикационная активность, в частности приведшая к появлению в 1960 году манифеста «Трансфинитное искусство»[3]. Этот текст, с одной стороны, стал суммой слепяновских мыслей и рассуждений нескольких предшествующих лет, а с другой — продемонстрировал существенную эволюцию его представлений об искусстве.
Теоретические тексты Евгения Михнова существуют в гораздо менее «стройном» виде. Он никогда не предназначал свои заметки для публикации, и ни одно издание не позволяет в полной мере восстановить контекст их возникновения и изначальную организацию. Существующие записи, которые Михнов (при участии некоторых близких ему людей) вел по крайней мере с 1956 года, так или иначе связаны с театром и изобразительным искусством. Среди них — театральные манифесты, пометки, выписки, рассуждения и афоризмы. Для раннего периода творческой активности Михнова (с 1956 по примерно 1962 год) характерна определенная последовательность и связность в терминологии и мыслях, так что можно — с некоторой долей условности — говорить о теории искусства Евгения Михнова-Войтенко.
Предположим, фаза более или менее активного знакомства между Слепяном и Михновым приходится на период с 1956 по 1959 год — тогда нельзя не обратить внимания на то, что наиболее зрелый и законченный вид их теории приняли уже после окончания знакомства. Тем не менее вполне очевидно: в обоих случаях мы имеем дело с развитием и уплотнением принципов и положений, возникших уже в годы общения художников. А если предположить (и сделать это нетрудно), что при встречах они обсуждали искусство и свои представления о нем, то можно увидеть в подобных обсуждениях как минимум один из ингредиентов, на которых оказались замешены их теории.


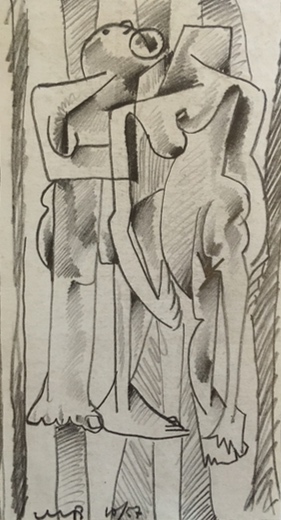

Чуть раньше, чем в вышеупомянутом манифесте, свои воззрения на искусство Слепян изложил в третьем номере журнала Art News за 1959 год. В интервью, которое художник дал уже после эмиграции в Париж, но еще под псевдонимом (статьи последующих лет он подписывает своим именем), можно увидеть несколько игровое описание системы художественных институтов в СССР, а заодно — указание на истоки модернизма в искусстве Слепяна. Он говорит о том, что начал с «сюрреалистских рисунков машин», далее уточняя, что именно это были за машины: «В праздники, на военных парадах, я видел невероятные пушки, ракеты, самолеты — это была фантастика! Это вдохновило меня!»[4] Примечательны параллели с Михновым: его искусство во многом происходит из «миниатюр», малоформатных рисунков на клочках бумаги, которые он делал сотнями и тысячами в 1956–1959 годах, — в них можно найти очень много сюрреалистских композиций, правда, в основном биоморфных.
Чуть дальше в том же интервью Слепян рассуждает о новой форме коллективности, которую он искал в парижском искусстве и ради которой эмигрировал из страны, где коллективность, казалось бы, была объявлена высшей ценностью. Здесь можно прочесть отсылку к перформативным «сеансам одновременной живописи». Этот причудливый коллективный перформанс, часто описываемый в литературе о Слепяне, возник во многом под влиянием документального фильма о Пикассо (1956). В нем мэтр модернистского искусства рисует на стекле, с обратной стороны которого помещена видеокамера. Это позволяло с невиданной прежде полнотой следить за процессом развития и трансформации рисунка. Примечательно, что Слепян здесь перенял не конкретную форму — с этой точки зрения Пикассо был для него не более, чем одним из «влияний». Гораздо важнее оказался метод, причем в данном случае связанный не с искусством, вернее, не с «тем» искусством, а с кинематографией. Слепян укреплял в специальном зажиме (упоминают «стоматологический станок») лист промасленной бумаги, по обе стороны которого располагались художники. Сильное освещение давало возможность с одной стороны видеть, что нанесено на лист с противоположной стороны, — это и рождало взаимодействие.
Стремление к коллективности и своеобразный «перформативный поворот» вообще могут считаться отличительными чертами того несколько разнородного и разнесенного по разным городам, очень условного «круга», о котором идет речь. Евгений Михнов-Войтенко, Софья Филькинштейн и Олег Целков — ленинградские друзья и собеседники Слепяна — учились в Театральном институте у Николая Акимова. Причем двое первых пришли туда с «театральной стороны», их изначальным стремлением была именно работа в театре (в отличие от уже бывалого модерниста-контркультурщика Целкова). Поэтому их интерес к действию и организации искусства в коллективе объясним. Наиболее ранние из сохранившихся записей Евгения Михнова сделаны, вероятно, вместе с Софьей Филькинштейн и представляют собой манифесты «современного театра» — современного и в форме, и в репертуаре, и в отношении к зрителю, которого молодые новаторы стремились вовлечь в театральное действие.



Сохранились воспоминания Михаила Кулакова о перформансах, придуманных Михновым уже вне театра: «…брандмауэр, кирпичная стена, которых много в Ленинграде. Бидоны с красками. Рота солдат. Е. Михнов, командир. По команде Михнова солдаты бросают краску на стену, затем бросаются сами на стену и сапогами топчут и разбрызгивают краску. Михнов руководит...»[5] Тот же Кулаков упоминает о михновской идее «конкретного театра», где зритель и актер меняются местами — или, по крайней мере, зрители вовлекаются в процесс[6]. В «дневнике» театрального проекта Михнова — Филькинштейн обнаруживается понятие «объемного искусства» и рассуждения о необходимости преодолеть «зажимающую» актера пресловутую «четвертую стену»[7].
Коллективность Михнова осталась нереализованной, а его перформативность реализовалась лишь частично (об этом ниже). Впоследствии отшельничество и индивидуализм в искусстве стали едва ли не главной его характеристикой. Да и для Слепяна «сеансы одновременной живописи» остались, кажется, едва ли не единственным экспериментом с коллективностью. Гораздо больше его интересовали, как представляется, техника и процессуальность. Техника для него — необходимый компонент, который следует инкорпорировать в процесс создания произведения. «Стоматологический зажим», упомянутый выше, да и вообще откровенная «техничность» «сеансов» бросается в глаза. Особенно если вспомнить работу Слепяна над картинами с помощью сложного аппарата, который он сконструировал, соединив пылесос с велосипедным насосом. Все эти технические средства, можно предположить, служили инстанцией современности, остраняли обычный, понятый буквально и в лоб «процесс творения».
Интервью 1959 года содержит еще одну любопытную деталь — Слепян «анатомирует» современного художника, которого называет «автоматистом». В «автоматисте» соединяются две ипостаси: одна из них стремится создать вещественное произведение искусства, объект, а другая фокусируется на процессе, не придавая значимости результату. Эта идея — последний шаг перед «трансфинитным искусством». Молодой советский эмигрант (не случайно несколько раз упомянувший в интервью сюрреализм) отдает предпочтение процессу, а также принимает «автоматизм» как нечто само собой разумеющееся в современном искусстве, как исходную точку любых дальнейших построений.
Для Михнова, как было сказано выше, процессуальность — также ключевой элемент. Уже театр в его трактовке представляет собой движение от ситуации к ситуации и предполагает отсутствие жестко заданной траектории и действие в зависимости от совокупности внутренних и внешних обстоятельств. Неудивительно, что и изобразительное искусство он понимает сходным образом. Лаконичные афоризмы вроде «искусство — форма активности»[8] дополняются в его записях постоянными упоминаниями «шага», понятого то буквально, то отвлеченно-метафорически. Саму «форму активности» следует, вероятно, трактовать буквально — активность предполагается вполне физическая, вещественная. Михнову кажется важным подчеркнуть этот аспект.

Еще одна ключевая категория для «активности» Михнова — интенсивность. Он стремится к энергичной работе над картиной, да и описанный выше Кулаковым проект перформанса предполагает мощную динамику. Евгения Сорокина приводит полумифический факт о том, что переполненность молодого художника энергией приводила к тому, что метаемое им копье (в годы первого институтского образования, в 1952–1954-м, Михнов занимался легкой атлетикой) «ломалось в воздухе». А к лету 1961 года относятся записи Михнова о его «атаках плоскости», сведенных к «одному-двум… движениям»[9]. Кажется, процесс в данном случае максимально скукоживается — но вернее было бы сказать, что он заостряется, достигает абсолюта в представлении Михнова.
Такая мгновенность подсказывает еще одну проблему, ключевую как для Михнова, так и для Слепяна. Речь идет о проблеме спонтанности/автоматизма. Выше говорилось о том, что Слепян воспринимал категорию автоматизма едва ли не как неизбежное условие работы над современным произведением. Процессуальность и спонтанность/автоматизм вообще неразрывно связаны между собой в европейском и американском искусстве конца 1940-х — начала 1950-х годов. В своей влиятельной монографии об абстрактном экспрессионизме нью-йоркской школы Майкл Лейя указывает на то, что идея «живописи действия», предложенная поэтом и критиком Харальдом Розенбергом для интерпретации абстрактного экспрессионизма, как раз соответствовала «сюрреалистскому» компоненту этого последнего[10], будучи непосредственно связана как раз с идеей автоматизма, спонтанного и подсознательного.
Именно плотная связка автоматизма и процессуальности является нервом манифеста Владимира Слепяна «Трансфинитное искусство». В основе его текста лежит идея о том, что фиксация на конкретной, «вещественной» картине составляет принцип «финитности», то есть законченности, который противоречит модернистским стремлениям от этой самой законченности избавиться. Все предпринятые прежде попытки, по сути, не достигли успеха потому, что не смогли идентифицировать эту базовую конвенцию как помеху на их пути. Фиксация на процессе, предложенная новаторами послевоенной абстракции (любопытно, что более значим для Слепяна не Поллок, а француз Матье), может считаться решением проблемы, но только в том случае, если будет радикализирована.

Эта простая мысль, впрочем, не могла бы составить целый манифест. Следует, кстати, оговориться, что, несмотря на форму манифеста, перед нами не декларация о намерениях и не объявление войны канонам, а настоящая теоретическая программа по разработке и воплощению нового, трансфинитного искусства, с описанием конкретных шагов на этом пути. Описание и раскрывает перед читателями главную волнующую автора проблему. Для фиксации на процессе — настоящей, а не имитируемой, — требуется погружение в состояние «отрешенной концентрации». Оно представляет собой, по всей видимости, не просто транс, но некоторое гармоничное среднее между трансом, то есть отключением сознания в пользу подсознания, и сознательным управлением своими действиями. Слепян задается вопросом о том, как достичь этого состояния, и делает вывод, что просто «включать» его невозможно: «для достижения такого состояния нужно запустить определенный процесс и… погружение в это состояние требует некоторого времени»[11]. Главная новация Слепяна (по его собственному мнению) по сравнению с постулатами все того же Матье заключается в том, что он предложил не прерывать художественный процесс из-за выхода из состояния «отрешенной концентрации». Ему представлялось допустимым перемежать подобные стадии (он назвал их «вспышками») размеренными и спокойными этапами — это дает возможность длить процесс, лишать его конечности. И даже более того — подобные промежутки обретают концептуальное и конструктивное значение для всего процесса: «Интервалу… должна быть отведена особая роль: это подготовительный период»[12].
В своих рассуждениях Владимир Слепян указывает на «детерминистический» характер трансфинитного процесса, но затем вводит такие категории, как «ритм» и «сигнал», которые направляют его рассуждения в кибернетическую плоскость: вспомним, кстати, его увлечение техникой, а заодно и (неоконченную) учебу на математика. Язык манифеста несколько каменеет: «“Недетерминистический статистический процесс подбора ритмов” становится все более детерминированным: это уже “кибернетический процесс”. Темп приобретает решающее значение»[13]. И хотя категорию темпа можно сблизить с михновской интенсивностью, все же в этой части теория Слепяна ближе к рассуждениям Юрия Злотникова о его ориентирах в 1950-е, при создании знаменитой «Сигнальной системы»: «Ритм — как властная и не утяжеленная ассоциациями категория, для меня — важный инструмент. <…> Организация импульсов в ритмизированную систему детерминированной собственной особью — моя работа»[14]. Впрочем, кибернетические увлечения обоих художников, с одной стороны, нуждаются в сфокусированном внимании исследователей, а с другой — и так уже вызывают достаточный интерес, в том числе со стороны кураторов из крупных институций.

Интересно отметить и то, как уравновешивает Слепян детерминированность формы, которая, по его словам, является следствием существования некоторого «внешнего контроля» за рукой художника в момент «вспышки». Эта детерминированность в его построениях поверяется ритмом, в свою очередь, выступающим как категория точной (и крайне современной) науки, кибернетики, то есть легитимирующая инстанция.
Коротко говоря, Слепян сводит искусство к чистому процессу, который должен прерываться только тогда, когда исполнитель достигает физического изнеможения. Композиция и форма теряют смысл, а само «произведение-объект» служит лишь свидетельством, документацией перформанса. Важными представляются и рассуждения о «вспышке», которая происходит между двумя другими психологическими стадиями, проходимыми художником — вдохновением (перед вспышкой) и удовлетворением (после). Ориентация еще на одну науку, на этот раз психологическую, также обращает на себя внимание.
Для Евгения Михнова-Войтенко искусство представляет собой процесс раскрытия потенциала, заложенного в исходной точке. Ключевое для него понятие — «конкреция». Оно возникло еще на «театральном» этапе его построений и обозначало, судя по всему, конкретные условия (материальные, эмоциональные, событийные etc.), из которых актер делает первый шаг. Каждый следующий шаг приводит к изменению условий и требует от актера реакции и взаимодействия.
Именно такой принцип, видимо, лег и в основу михновского искусства. Художник указывает на то, что компоненты художественного процесса, даже (так точнее) его участники представляют собой загадки. Среди этих участников Михнов называет картину, художника и зрителя. Все три должны так или иначе раскрыться, воплотиться, разгадаться. Неслучайно мотив «встречи», «контакта» для Михнова крайне важен: в его понимании именно столкновение акторов и обстоятельств в тех или иных комбинациях приводит к возникновению искусства. Отсюда логично вытекает подчеркивание Михновым «событийности» своего искусства: «Взаимодействия рождают события»[15]. И — едва ли не классический афоризм: «Моя живопись не изображает событие, она являет собой событие. Поэтому совершенно неверно считать ее абстрактной, а событийной или конкретной»[16]

Михнов активно разрабатывает проблему автоматизма и спонтанности. Сложная формула, разбавленная психоаналитическими понятиями, демонстрирует часть его представлений: «Творческий процесс происходит в результате ослабления эго-контроля над бессознательным истинным (оно) и подобен сновидению <…> хотя в отличие от них носит осознанный характер»[17]. Ослабление контроля в данном случае означает нечто, достаточно близкое рассуждениям Слепяна: Михнов ищет гармонию между бессознательным и контролем.
Он отвергает «продуманность» и невысоко ценит «интеллект». Еще одной враждебной категорией выступает случайность: «Интеллект, положившийся на случайность, — не интуитивный жест: это тот же самый интеллект, но вороватый»[18]. Случайность, таким образом, для Михнова дискредитирована. Но он все-таки размышляет о том, как интегрировать синтез, размышления, «интеллект» в свою практику, поскольку без этого компонента, по всей видимости, не обойтись.
Насколько непросто художнику дается решение возникшей коллизии, заметно по подобным вопросам: «Равноценно ли заменять интуицию — живой органический поток — продуманностью?!»[19] Этот вопрос задается уже после того, как «синтез, самоосознание» случился и пришел на смену интуиции. Далее, впрочем, Михнов находит формулу примирения: «Периоды синтезирования также необходимы — это очевидно. Но не они составляют ценность. Они лишь говорят и познают, что таковая имела место в прошедшем моменте»[20].
Сходство со «вспышками» Слепяна примечательно. Оба художника акцентируют моменты, периоды наибольшей творческой интенсивности, где в одном случае достигается состояние «отрешенной концентрации», а в другом действует «интуитивный разум». При этом стадии, смежные с этой высшей, объявлены необходимыми и инструментальными для общего процесса, но второстепенными. Оба художника не удовлетворяются «простыми» решениями, не полагаются на случайность, а вводят дополнительные ограничители, такие как «кибернетический ритм» и все тот же «интуитивный разум». Однако источники понятий существенно разнятся: столь высоко ценимый Михновым «интуитивный разум» явно несет на себе отпечаток юнгианского психоанализа с его архетипами: «Интуитивный разум — это разум сотен поколений, это разум загадочный, …совершившихся событий, имеющих не только узко человеческий и наземный план. Интуитивный разум владеет Вселенной…»[21]

Сложно понятая процессуальность, ориентация на достижения современных наук, отказ от композиции и вообще любых иерархий в построении картины — вот объединяющие Михнова и Слепяна принципы, которые артикулированы в их теоретических разработках. При этом между теориями много различий. Наиболее наглядны они в конкретных результатах применения этих теорий. В начале 1960-х Владимир Слепян проводит несколько публичных сеансов трансфинитного искусства, где покрывает краской рулоны длиной в десятки и сотни метров, а Евгений Михнов в то же время достигает кульминации в работе с промышленной краской, нитроэмалью, которая быстро высыхает и требует крайне динамичной работы: художник дает ей растечься по картону, бросает на поверхность буквально двумя движениями, а также поджигает, переходя к работе со стихиями.
Две обсуждаемые здесь теории искусства возникли одновременно и из близких предпосылок. Их авторов нельзя назвать исключительно теоретиками, но все же они выделяются на фоне своих современников в советском искусстве интенсивностью и артикулированностью рефлексии. Несмотря на то, что невозможно неопровержимо доказать взаимосвязь между этими теориями, сходства заметны и вполне могут быть следствием обсуждений и обмена идеями между Евгением Михновым-Войтенко и Владимиром Слепяном в краткий период их знакомства.
В качестве заключения замечу, что подробный и вдумчивый анализ этих теоретических построений приводит к усложнению — конструктивному и, я бы сказал, благотворному — наших представлений о советской послевоенной абстракции и неофициальном искусстве в целом, а кроме того, дает возможность двигаться дальше и разрабатывать проблему концептуализации и метапозиции в позднесоветском искусстве.
Примечания
- ^ Сразу оговорюсь, что теоретические выкладки Юрия Злотникова известны мне только по позднейшим публикациям, но в них он рассуждает о том, как представлял себе искусство в 1950-е. Из-за этого у меня нет возможности полноценно вводить в анализ злотниковские построения. Я буду использовать их как дополнительные по отношению к системам Слепяна и Михнова. В будущем, если более ранние тексты Злотникова об искусстве будут опубликованы или станут как-то иначе доступны мне, я намерен продолжить анализ и дополнить его с учетом этих новых (для меня) документов.
- ^ Басин А. «Нас пачкает не что входит, но что исходит» (памяти Александра Арефьева) // Часы. 1979. №13. C. 188–201.
- ^ Опубликован в 1961: Two cities, №7–8. 1961. Написание текста 1960 годом датирует Евгения Кикодзе, см.: Владимир Слепян. Трансфинитное искусство. М.: Grundrisse, 2018, с. 72.
- ^ Pierre Schneider. “I was an abstractionist in USSR”, interview with “Woks” // Art News. №3, 1959. P. 29.
- ^ Михаил Кулаков, Ленинградская школа. Е.Г. Михнов-Войтенко (опубликовано в Антологии «У Голубой Лагуны»). Цитирую по отсканированной копии машинописи из личного архива Михаила Кулакова. Первой на этот фрагмент из сравнительно известного текста Кулакова обратила внимание Екатерина Андреева: Андреева Е. Ленинградская метафизика и эхо экспрессионизма во второй половине ХХ века // Эхо экспрессионизма: Каталог выставки. ГРМ: Palace Editions, 2019.
- ^ Примечательно, что знакомство Михнова с Кулаковым состоялось не раньше 1960-х годов. Идею «конкретного театра» Кулаков упоминает несколько впроброс — словно привычного «конька», которого Михнов (можно поспекулировать) частенько «седлал» в разговорах. Это еще одно подтверждение тому, что проблемы театра продолжали занимать Михнова и после того, как всякая его театральная деятельность сошла на нет, что подтверждается и записями самого художника.
- ^ Людмила Хозикова. Евгений Михнов-Войтенко. Жизнь вопреки правилам. М., 2008. С. 293–295 (далее: МВ).
- ^ МВ. С. 304.
- ^ МВ. С. 319.
- ^ Michael Leja. Reframing Abstract Expressionism. Subjectivity and Painting in the 1940s. New Haven, London: Yale University Press, 1993.
- ^ Владимир Слепян. Трансфинитное искусство / Владимир Слепян. Трансфинитное искусство. М.: Grundrisse, 2018. С. 78.
- ^ Там же.
- ^ Там же. С. 80.
- ^ Злотников Ю. Язык и пути познания // Художественный журнал. 1994. №5. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/62.
- ^ МВ. С. 300.
- ^ Там же. С. 320.
- ^ Там же. С. 387.
- ^ Там же. С. 372.
- ^ Там же. С. 318.
- ^ Там же.
- ^ Там же. С. 319.