Наука об искусстве: сигнал тревоги
В 1986 году в советской печати разгорелась дискуссия, посвященная состоянию искусствоведческой науки. Начал ее историк искусства, профессор, автор множества монографий и публикаций Андрей Дмитриевич Чегодаев, по выражению редакции газеты «Советская культура», «с тревогой и полемической заостренностью» размышлявший «о тех переменах, которые необходимы науке об изобразительном искусстве». Благодаря архиву семьи Алленовых «Артгиду» удалось реконструировать эту дискуссию. Сегодня мы знакомим наших читателей с текстом Чегодаева, а в последующих публикациях приведем высказывания и других авторов, вступивших в обсуждение, и предлагаем поразмышлять над тем, что изменилось за прошедшие почти сорок лет.
 Луи Мориц. Урок рисования. 1808. Дерево, масло. Фрагмент. Рейксмузеум, Амстердам
Луи Мориц. Урок рисования. 1808. Дерево, масло. Фрагмент. Рейксмузеум, Амстердам
История искусств — древняя наука, восходящая еще к временам Аристотеля[1]. В течение веков и тысячелетий люди внимательно и заботливо изучали искусство — старое и современное, свое и иноземное, собирали сведения о художниках, размышляли о смысле и назначении искусства. В двадцатом веке история искусств стала широко разветвленной наукой со сложной и глубокой методологией изучения искусства, со множеством исследовательских институтов в разных странах мира, с массой изданий, и не только предназначенных для ученых-специалистов, но и рассчитанных на самый обширный круг любителей искусства, которым несть числа.
Я буду говорить лишь о той области науки об искусстве, которая занимается историей изобразительных искусств — живописи, скульптуры и графики, прекрасно зная, что ровно то же самое можно сказать об истории архитектуры, об истории театрального искусства, об истории музыки.
Старая русская искусствоведческая наука со времен Стасова и Александра Бенуа, а затем и советская внесли немалую долю в изучение мирового искусства от времен Древнего Египта и до последних десятилетий нашего века, нередко занимая ведущее положение в разных областях истории искусств. Выдающимися знатоками и исследователями изобразительных искусств разных стран в советское время были и И.Э. Грабарь, и В.Н. Лазарев, и Б.Р. Виппер, и В.Ф. Левинсон-Лессинг, и М.Э. Матье, и В.Н. Прокофьев, и другие замечательные ученые. Их наука ни в малой мере не была герметической, замкнутой в себе наукой для посвященных — они прежде всего заботились о широком распространении глубоких знаний об искусстве — старом и современном.
Наоборот, невежество по отношению к старому искусству (и даже искусству своей собственной страны) неизменно порождало полное непонимание того, что делалось в искусстве своего времени. Сейчас трудно понять, почему в представлениях современников величайшим французским художником XVIII века считался вовсе не Ватто, не Шарден и не Фрагонар, а ничтожный Карл Ван Лоо — тот, о котором Дени Дидро с презрением говорил: «Эта скотина Ван Лоо!» Полная «невинность» по части каких-либо искусствоведческих знаний позволила в XIX веке возникнуть шумной славе таких нисколько этой славы не достойных модных знаменитостей, как Деларош или Макарт. Я думаю, что таким же пренебрежением к истории искусства, к подлинно великим мастерам прошлого нужно объяснять распространившуюся в XX веке по всему свету славу таких сомнительных художников, как Шильтян или Де Кирико. Есть и другие разительные примеры. Подобное неправомерное и нелепое возвеличение репутаций плохих художников приводит к массовой порче эстетических представлений и к распространению дурных вкусов.
Однако не следует забывать о важнейшем свойстве подлинно великого искусства всех времен: оно не умирает, не уходит безвозвратно в прошлое, а живет вечно, входя в духовный мир сменяющих друг друга поколений с первозданной свежестью и властной силой, возвышая и очищая этот духовный мир от мелких, преходящих и ложных помыслов. Микеланджело и Рембрандт, Веласкес и Ватто, Гойя и Мане, Александр Иванов и Валентин Серов — не мертвые музейные ценности, интересные и важные лишь ученым специалистам. Это живое настоящее, а не прошлое, оно работает сейчас не с меньшей, а с гораздо большей мощью, чем то было при жизни великих мастеров. Конечно, так может быть только для тех, кто знает этих великих художников. А для этого нужно читать книги об этих великих художниках — знать историю искусства.
Надо ли излагать и напоминать эти, казалось бы, совершенно очевидные, банальные истины? Оказывается, надо.
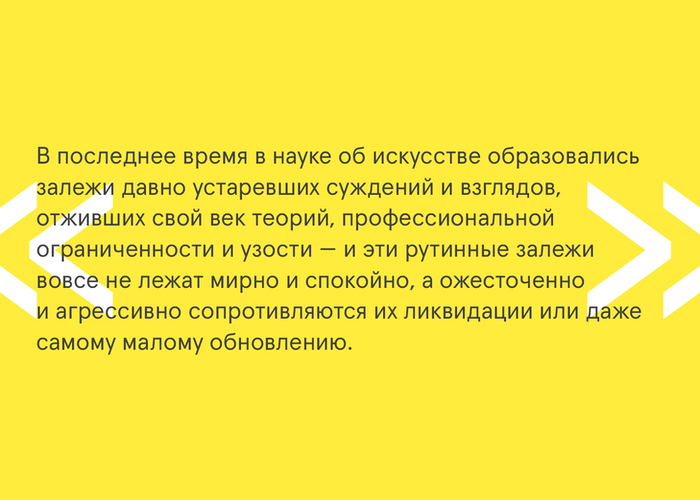
Наша советская искусствоведческая наука, и не только лишь в сфере изучения изобразительных искусств, но и в театроведении, и в музыковедении, и в архитектуроведении, находится в состоянии кризиса, застоя. Так обстоит дело в институтах, университетах, музеях России, Украины, Белоруссии, некоторых других республик (обо всех судить не могу — надеюсь, что там дела лучше).
Число настоящих талантливых, серьезных, знающих ученых, историков искусства катастрофически уменьшается с каждым десятилетием. Средний возраст тех, кто обладает заслуженным авторитетом и справедливым признанием, — шестьдесят, а может быть, и семьдесят лет. Появление нового, подлинно талантливого молодого ученого — редкостное событие, и приток таких ученых никак не поспевает хотя бы возмещать вымирание старшего поколения. К тому же этим молодым ученым непросто достигать признания — далеко не всем оказывается приятным возникновение опасной конкуренции. Ведь немалое число ученых-искусствоведов и почтенного, и среднего возраста обеспокоено вовсе не судьбами науки, а страхом потерять насиженное место в каком-нибудь институте, университете или музее. Они давно утратили способность и склонность не то чтобы к каким-то научным открытиям, но хотя бы к развитию и обогащению собственных знаний, вяло и скучно «пережевывают» десятилетиями одно и то же.
В последнее время в науке об искусстве образовались залежи давно устаревших суждений и взглядов, отживших свой век теорий, профессиональной ограниченности и узости — и эти рутинные залежи вовсе не лежат мирно и спокойно, а ожесточенно и агрессивно сопротивляются их ликвидации или даже самому малому обновлению. Распространилось какое-то равнодушие к своему собственному делу, холодное безразличие, а то и прямой испуг при появлении новых, живых, современных идей, двигающих науку вперед, переоценивающих заново накопленное художественное и научное наследие с позиций новой, действенной и творческой современной жизни. Эти тенденции к косности и к вялому равнодушию, как и крайняя малочисленность неинертных и серьезных ученых, весьма помогают размножению невежественных халтурщиков, болтунов и плагиаторов, засоряющих науку об искусстве вздорными выдумками и неисчислимыми ошибками.
Откуда взялась такая печальная ситуация, что ее породило? Я думаю, что она — нечто аналогичное и глубоко родственное распространившейся в последние десятилетия в разных сферах жизни распущенности и расхлябанности, равнодушию к реальному, необходимому делу, лжи, рядящейся под истинную правду, аналогичное тому негодному, что приходится выкорчевывать сейчас повсюду без всякого снисхождения. Чем, собственно, бездельники и обманщики в промышленности или торговле очень уж отличаются от тупиц, рутинеров, халтурщиков в науке? Это социальные явления одинаково неприемлемого и негативного порядка.
Ненормальное положение в науке об искусстве довольно однообразно преломляется в разных по своему назначению сферах деятельности, так или иначе причастной к научным изысканиям.

Университетская наука испокон веков была одним из главных и ведущих центров и источников деятельного развития искусствоведческой науки. Профессора сами разрабатывали важнейшие научные проблемы и воспитывали в надлежащем духе своих студентов. Такое положение больше не свойственно отделениям истории искусств Московского и Ленинградского университетов или Ленинградского института имени Репина. Они растеряли свой авторитет и не играют ведущей роли в развитии советского искусствознания. Известные, признанные ученые присутствуют там в весьма скромном количестве, но если они сами что-то пишут и печатают (как старые, так и очень немногие молодые), то вся нынешняя система университетского образования в сфере науки об искусстве может способствовать только уничтожению, полной деградации этой науки.
Университеты и институт далеко не ежегодно выпускают немногих талантливых людей, но зато каждый год множество таких, кто рассаживается референтами, редакторами, секретарями во все учреждения, сколько-нибудь причастные к искусству, обычно останавливая всякую жизнь там, куда они проникают. Но это стихийное бедствие — прямой результат уродливой системы набора студентов: не говоря уж о том, что отделение истории искусств — это нечто весьма «престижное» и всякие влиятельные папеньки и маменьки всеми правдами и неправдами устраивают туда своих потомков — на экзаменах (в Московском университете) все устроено так, чтобы в университет попадали случайные люди, так как решает дело не идущий последним экзамен по истории искусств, а экзамены по другим предметам, к искусству отношения не имеющим.
Целые отрасли науки об искусстве приходят в высших учебных заведениях к угасанию. Например, Советский Союз обладает замечательной, поистине драгоценной коллекцией памятников древнеегипетского искусства, собранной в свое время знаменитым русским египтологом Голенищевым. Чехословакия такой коллекцией не обладает, но в Праге имеется институт египтологии с филиалом в Каире.
В том же Каире находится английский институт египтологии, а также и французский, и американский египтологические институты. А у нас академик Б.Б. Пиотровский был вынужден закрыть в Ленинградском университете кафедру египтологии, потому что преподававшие там египтологи умерли, а преемников им по разным причинам не нашлось. А тот же Голенищев основал кафедру в Каирском университете и читал там лекции до 1947 года, до конца своей жизни.
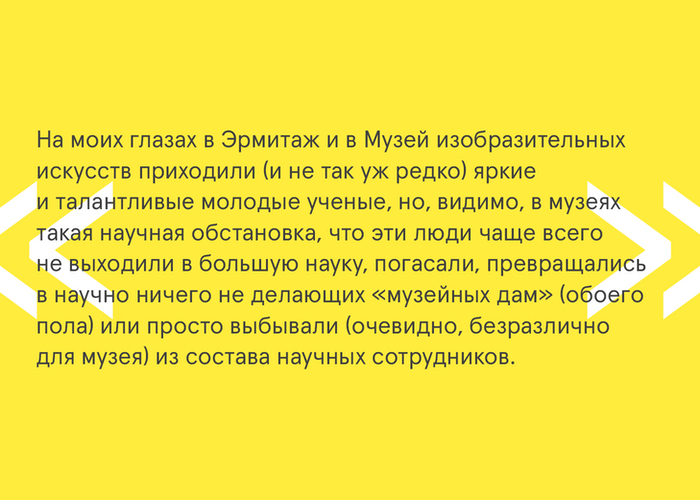
Было время, когда и художественные музеи были средоточием высокой науки об искусстве. Там работали такие ученые, как Лазарев, Доброклонский, Левинсон-Лессинг, Орбели, Матье и другие. Это время осталось только в воспоминаниях. Талантливые, большие ученые ныне там такая же великая редкость, как и лучшие экспонаты их коллекций.
На моих глазах в Эрмитаж и в Музей изобразительных искусств приходили (и не так уж редко) яркие и талантливые молодые ученые, но, видимо, в музеях такая научная обстановка, что эти люди чаще всего не выходили в большую науку, погасали, превращались в научно ничего не делающих «музейных дам» (обоего пола) или просто выбывали (очевидно, безразлично для музея) из состава научных сотрудников.
Научная работа большей частью свелась в музеях к составлению каталогов их собраний и каталогов временных выставок. Но делаются эти каталоги, даже в основных, крупнейших музеях нашей страны, далекими от совершенства, неряшливо, наспех. Меня поразило, как можно было с легкостью необыкновенной испортить созданный в основном еще В.Ф. Левинсоном-Лессингом двухтомный каталог картинной галереи Эрмитажа, заканчивавшийся сотрудниками отдела Запада. Вам понадобился знаменитый французский художник Поль Гоген (о котором огромная литература, в том числе и на русском языке), вы раскрываете каталог и с удивлением узнаёте, что Гоген будто бы умер на Антильских островах, а не на Маркизских в Полинезии, как все привыкли думать. Кто оказался таким невеждой и в географии, и в литературе о новейшем французском искусстве? Такая грубая ошибка не одна, но ведь достаточно и одной, чтобы перестать верить всем остальным сведениям. К каталогам временных выставок в отделе Запада Эрмитажа относятся с полным пренебрежением, доходящим до истинной фантастики: в маленьком каталоге выставки восьми картин Эдуарда Мане, прибывших из Лувра, на восьми страницах вступительной статьи я насчитал сто двадцать семь ошибок!
Эрмитаж не одинок в такой ленивой небрежности. Грубыми ошибками наполнены каталоги и другие издания и московских музеев — Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств имени Пушкина (своего рода «рекорд» безудержной фальсификации реально бывшей истории поставлен в целиком посвященном Музею изобразительных искусств имени Пушкина альманахе «Музей-3», напечатанном издательством «Советский художник» по материалу, представленному музеем). Почему стало так просто вводить читателей подобной литературы в заблуждение?

Всего хуже обстоят дела с наукой об искусстве там, где следовало бы предполагать встречу с вершинами ученой премудрости — в научно-исследовательских институтах.
В Москве имеются два больших искусствоведческих института: Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания Министерства культуры СССР и научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР. Оба эти института в их нынешнем состоянии никак не могут содействовать прогрессу науки об искусстве. В обоих институтах еще есть некоторое количество серьезных ученых, пишущих хорошие книги. Но «лицо» этих институтов и общая направленность их деятельности определяются, к сожалению, вовсе не такими учеными.
Всесоюзный институт искусствознания некогда назывался Институтом истории искусств Академии наук СССР. Под таким названием он был основан в 1944 году академиком И.Э. Грабарем. В создании этого института ему помогали виднейшие деятеля советской науки и советского искусства: раздел изобразительных искусств организовал Лазарев — всемирно известный ученый, историк искусства, член-корреспондент Академии наук СССР; раздел архитектуры — академик Веснин, знаменитый архитектор; раздел театра — Марков, один из руководителей Московского художественного театра; раздел музыки — академик Асафьев, крупнейший советский теоретик и историк музыки; раздел кино — великий кинорежиссер Эйзенштейн. Грабарь собрал в своем институте много ярких, талантливых ученых, и здесь было создано много ценнейших ученых исследований, в том числе монументальная шестнадцатитомная «История русского искусства», не только подведшая итог всем предшествовавшим научным изысканиям, но и включившая в себя множество новых открытий, новых идей, новых оценок давно известных художественных явлений. Тогда институтом были изданы и основополагающие научные труды В.Н. Лазарева, Б.Р. Виппера и других ученых.
В 1961 году из-за искаженного понимания «приближения к производству» институт был исключен из системы Академии наук СССР (я знаю, что мнения руководства академии не спросили) и передан Министерству культуры СССР. Министерство, ценя научное значение института, долгое время не вмешивалось в его работу, и она шла по-прежнему. Но с самого конца семидесятых годов структура и направление деятельности института начали решительно меняться. Министерство перепоручило институту часть своих собственных обязанностей. Был учрежден ряд новых секторов, соответствующих структуре и потребностям министерства. Институт наполнился множеством новых сотрудников, не причастных к науке об искусстве и пишущих разнообразные «разработки», «программы», «рекомендации», «докладные записки» и другие бумаги для министерства. Институт в большой своей части приобрел чисто ведомственный характер, облик (и существо) своего рода расширенной канцелярии министерства.
Секторы, оставшиеся от грабаревского Института истории искусств, занятые наукой, обращенной не к министерству, а к искусству и к народу, оказались отодвинутыми на самый дальний план, и все возможности их развития, роста и нормальной работы были самым решительным образом урезаны. Даже из названия института было изъято слово «история» — ведомственному институту, занимающемуся прежде всего сиюминутной, злободневной организаторской и административной работой, никакая история, даже история современного советского искусства, явно не требуется.
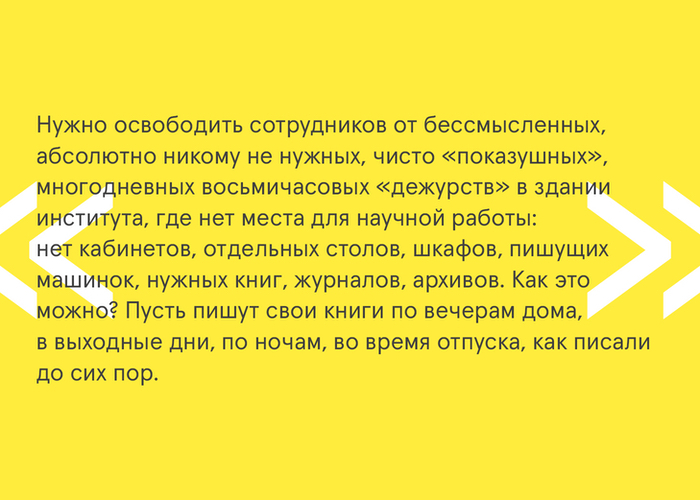
Но наука не может быть ведомственной. Увлеченная новыми ведомственными обязанностями и задачами, дирекция института словно вознамерилась парализовать всякое желание заниматься всерьез действительной наукой, министерство не интересующей. Для нормального развития чего-либо стоящей науки нужны хотя бы самые элементарные условия. Их нет — имеются лишь всех сортов помехи и препоны. То, что я изложу дальше, относится только к «историческим» секторам и не относится к ведомственным.
Необходимо расширить крайне малочисленный состав сектора — нельзя. Нужно заменить умершего сотрудника — нельзя, дирекция оставляет «выморочное» место за собой. Нужно перевести из младших в старшие научных сотрудников, давно уже кандидатов наук, издавших важные, ценные книги и много статей, — нельзя, пусть до шестидесяти лет сидят в младших сотрудниках. Нужно послать в научную командировку талантливого ученого — нельзя, такие командировки нужно беречь для «избранных», хотя бы и неталантливых (и для членов дирекции). Нужно освободить сотрудников от бессмысленных, абсолютно никому не нужных, чисто «показушных», многодневных восьмичасовых «дежурств» в здании института, где нет места для научной работы: нет кабинетов, отдельных столов, шкафов, пишущих машинок, нужных книг, журналов, архивов. Как это можно? Пусть пишут свои книги по вечерам дома, в выходные дни, по ночам, во время отпуска, как писали до сих пор. В институте скудная, нищая библиотека — обойдетесь и такой. Трудную, сложную, ответственную книгу не удалось завершить в задолго намеченный срок, нужны еще полгода для ее окончания — ни в коем случае! Извольте представить рукопись в назначенный пять лет назад день! Институту нужно было бы готовить научную смену для пополнения своего состава — нельзя, министерство отменило за ненадобностью такую аспирантуру, в институте могут быть аспиранты только из других учреждений или из республик. Они туда и вернутся восвояси. А когда институт забил тревогу — головному научному учреждению страны предложили готовить для себя аспирантов на стороне!
Еще хуже другое. Написанные книги, сборники статей слишком часто не уходят в издательства, многими десятками и неопределенное количество лежат в институтских шкафах — институт этим не обязан интересоваться, раз поставлена «галочка», что работа выполнена. Выполнение плана по неизданным книгам? Институт давным-давно не издает никаких «Трудов», «Ежегодников», даже бюллетеней, не имеет своего журнала и своего издательства и полностью зависит от любезности или прихоти разных издательств и от произвола посторонних, часто некомпетентных редакторов. Критерии качества научной работы стерлись и исчезли при той чисто формальной, часто канцелярской системе, когда оказались уравненными в правах талант и бездарность, подлинная глубина мысли и переливание из пустого в порожнее, научная честность и самая нечестная халтура.
Фактически под одним названием и под одной крышей оказались два разных и несовместных института. Нужно их развести: оставить министерству его ведомственный институт, а прежний институт истории искусств вернуть в Академию наук СССР — там естественно быть отделению литературы, искусства и языка — даже не надо менять прежнее сокращение «ЛИЯ»!
Но в современном состоянии науки об искусстве есть явления, гораздо более опасные и вредные, чем те, о которых рассказано до сих пор.
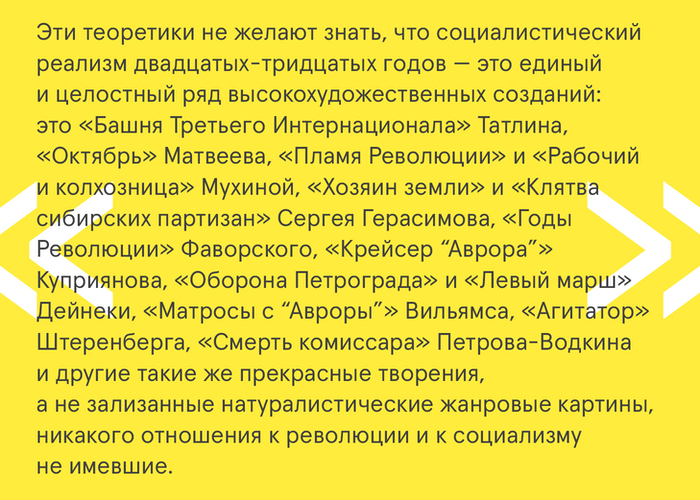
Что представляет собой Институт теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР? Там есть миниатюрный сектор зарубежного искусства — им ведает известный историк искусства Т.П. Каптерева, но в секторе вместе с нею всего восемь человек, и на их попечении все классическое и современное искусство Запада и Востока. Видимо, этот сектор надо считать деликатным и необязательным украшением института. А дальше идет длинный ряд секторов вплоть до таинственного «сектора актуальных проблем». Многолюден главный сектор — искусства народов СССР, но его научные позиции в далеком прошлом: они не сдвинулись с места с 1948 года — года создания этого института. Это никак не помогает научной работе сектора. Институт возник в трудный период нашей истории, когда из художественной педагогики были изгнаны «формалисты» — Сергей Герасимов, Дейнека, Матвеев, Фаворский, Осмеркин, когда проклинали и поносили как «формалистов» не только Кончаловского или Сарьяна, но даже Пластова. Хоть «гонителям» потом и пришлось несколько присмиреть, но все предпочтения института принадлежат прошлому. Выпущенное институтом не так давно девятитомное издание — «История искусств народов СССР» за исключением некоторых глав, написанных в республиках об искусстве Прибалтики, Закавказья, Средней Азии, осталось в своей современной российской части всецело на уровне стандартных институтских понятий. Текст о дореволюционном русском искусстве — это небрежная и краткая компиляция из давно устаревших чужих книг, переполненная грубыми ошибками. Но текст о советском русском искусстве — это или скучный, монотонный внешнеописательный перечень художников, где все они на одно лицо, или сознательная фальсификация истории.
Но искажение истории довоенного советского русского искусства — это еще только «цветочки» — «ягодки» впереди! Во вступлении к восьмому тому этого издания, где речь идет об искусстве первых послевоенных десятилетий, автор вступления Л. Зингер храбро решился на весьма дерзкий шаг: на восхваление критики конца сороковых годов в адрес Эйзенштейна, Прокофьева, Шостаковича, Ахматовой, Зощенко, расписав «благотворное влияние» этой критики на развитие советской художественной культуры, на борьбу с формализмом и т. п.! Институт Академии художеств решил такую «точку зрения» поддержать и, видимо, поддерживает до сих пор, так как в прошлом году выставил это свое издание на соискание Государственной премии, по справедливости не полученной.
Теоретические секторы института занимаются, на мой взгляд, усердным снижением, сужением понятия социалистического реализма. Институтские теоретики не способны (или не желают) понять, что складывавшийся в двадцатые и тридцатые годы социалистический реализм (не стиль, а метод!) был рожден Великой Октябрьской революцией, опирался на великое наследие мирового искусства, что социалистический реализм — это искусство больших революционных идей и новых пластических форм, нужных для выражения этих идей. Эти теоретики не желают знать, что социалистический реализм двадцатых-тридцатых годов — это единый и целостный ряд высокохудожественных созданий: это «Башня Третьего Интернационала» Татлина, «Октябрь» Матвеева, «Пламя Революции» и «Рабочий и колхозница» Мухиной, «Хозяин земли» и «Клятва сибирских партизан» Сергея Герасимова, «Годы Революции» Фаворского, «Крейсер “Аврора”» Куприянова, «Оборона Петрограда» и «Левый марш» Дейнеки, «Матросы с “Авроры”» Вильямса, «Агитатор» Штеренберга, «Смерть комиссара» Петрова-Водкина и другие такие же прекрасные творения, а не зализанные натуралистические жанровые картины, никакого отношения к революции и к социализму не имевшие.
Нужно решительное обновление этого совсем «старомодного» института.
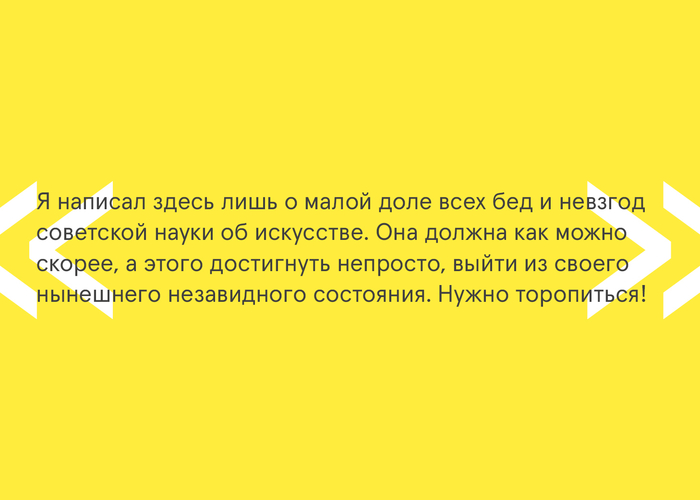
Но обновление необходимо всей этой науке! Может резко изменить положение приток новых, свежих, не скованных никакой умственной рутиной сил. Нужно с полным правом и с полной самобытностью держать высший уровень современной мировой науки об искусстве — помня, что на Западе наряду с изобилием поверхностной, плохой или ложной литературы об искусстве есть очень много настоящих, важных, глубоких, новых исследований об изобразительных искусствах всех времен и народов.
Я написал здесь лишь о малой доле всех бед и невзгод советской науки об искусстве. Она должна как можно скорее, а этого достигнуть непросто, выйти из своего нынешнего незавидного состояния. Нужно торопиться!
А. Чегодаев,
доктор искусствоведения, профессор
Примечания
- ^ Статью Чегодаева редакция «Советской культуры» предварила введением с цитатой из доклада М.С. Горбачева на Пленуме ЦК КПСС в январе 1987 года, в рамках которого генсек говорил о «необходимости творческого поиска в науке, недопустимости застоя научной мысли и важной роли общественных наук для развития страны, нравственного здоровья народа». В настоящей публикации мы сочли возможным опустить это введение.




