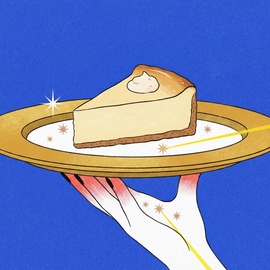Эллен Руттен. Искренность после коммунизма: культурная история
Эллен Руттен — историк культуры и профессор славистики Амстердамского университета. Ее книга, перевод которой вышел в издательстве «Новое литературное обозрение», посвящена новой искренности, ставшей глобальным культурным феноменом после падения коммунистической системы. С любезного разрешения издательства «Артгид» публикует фрагмент главы «Поэтика похмелья: современники Пригова».
 Илья Кабаков. Лодка моей жизни. 1993. Инсталляция. Национальный музей современного искусства, Афины. Источник: kabakov.net
Илья Кабаков. Лодка моей жизни. 1993. Инсталляция. Национальный музей современного искусства, Афины. Источник: kabakov.net
Творчество и восприятие Пригова позволяют наглядно проследить «нить памяти» в постсоветской риторике искренности. Однако, как я сказала ранее, его случай не единственный. Мы уже видели сходный интерес к культурной памяти в идеях ряда ранних адептов возрождения искренности. Я имею в виду прежде всего Гундлаха и Гандлевского, чье понимание «новой искренности» и «критического сентиментализма» выросло из появившейся в эпоху перестройки потребности переосмыслить противоречивую и травматическую советскую память (вспомним, как Гандлевский представлял критический сентиментализм в качестве инструмента обращения с воспоминаниями о советском прошлом — одновременно разрушительными и счастливыми).
В более позднем дискурсе о новой искренности внимание художников к советскому эксперименту не исчезает, а, напротив, обостряется. После перестройки дискуссия о советской памяти потеряла первоначальную остроту, но она продолжала играть решающую роль в суждениях о честности и художественном самораскрытии. Число примеров слишком велико, чтобы привести их здесь все, однако для того, чтобы оценить разброс интерпретаций, полезен краткий обзор самых громких заявлений.
Начнем с того, что коллективная память важна для взгляда на искренность, демонстрируемого Михаилом Эпштейном — тем самым ученым, который считает Пригова одним из лидеров новой искренности. По мнению Эпштейна, слова, которые возрождает риторика «новой искренности» («любовь» или «слеза»), сильно потускнели за «долгие века традиционного официального использования»[1]. Исторический период, который особенно сильно дезавуировал «высокие» слова в нашей культуре, по мнению теоретика, — это середина XX века, с ее нацистским и коммунистическим экспериментами. Эпштейн видит «новую искренность» и «новую сентиментальность» как «поэтику похмелья», которая возрождает литературную экспрессию после целого века «тошнотворных» «катастроф и революций»[2].
Работы Эпштейна, посвященные «поэтике похмелья», охотно цитировались в публичных дебатах о постсоветской литературе. Не менее известной стала и литературная критика Натальи Ивановой, автора влиятельных работ о постсоветской современности — в том числе и об искренности, — собранных в сборнике «Ностальящее» (2002). В последующем анализе она прослеживала связь между искренностью и советской памятью. В книге «Скрытый Сюжет» Иванова отмечает возвратное движение от постмодерна и «стёбного» отношения к советской действительности. Она открыто ссылается на постсталинскую искренность Померанцева, провозглашая, что «сегодня искренность, может быть, еще более революционна, чем в 1953 году»[3].

Связь между художественной искренностью и советским прошлым проходит красной нитью в ее работах. Уже в 1998 году Иванова указывала, что импульсом к появлению «новой искренности» в русской литературе стали проблемы памяти. По ее словам, возрождение искреннего самовыражения в литературе стало следствием «нравственного поворота значительной части общества к осознанию амбивалентности прошлого»[4]. Через 10 с лишним лет, в 2011 году, Иванова снова связала искренность и историю, когда, в статье «Искусство при свете искренности», она спросила: «Может ли современный литератор быть искренним и открытым? Или в эпоху постмодерна это совершенно невозможно?»[5] Критик рассматривает искренность как особую проблему постсоветского общества, в котором вопрос о том, как интерпретировать недавнее бурное прошлое, все еще остается открытым[6]. «В новой России, — пишет Иванова, — у новых людей в сознании происходит сшибка: ведь к советским людям, чей жизненный итог — отрицательный, относятся родные отцы. Осудить? Оправдать? Осуждая власть и общество, продолжать любить своих родителей, чем бы они ни занимались? Палачи они были или жертвы? Или и то, и другое сразу?»[7] Проблематика, к которой Иванова здесь обращается, сильно напоминает мысли Пригова, выраженные в статье, где он размышлял о том, что искренние переживания объединяют жертв репрессий и ветеранов-сталинистов. Иванова также прибегает к риторике искренности именно для того, чтобы понять, как выглядит нюансированный подход к советскому прошлому.
Последние работы Ивановой об искренности и культурной травме относятся к началу 2010-х годов. К тому времени проблемы, возникающие на пересечении этих двух явлений, уже привлекли внимание более широкой аудитории, чем в 1980-х годах, когда искренность стали впервые рассматривать как терапевтический культурный инструмент. В 2000-х годах та же идея встречалась во многих художественных и интеллектуальных областях: помимо художественной литературы, ее можно было обнаружить в нон-фикшн, визуальных искусствах, блогах, графической анимации и музыке. Я ограничусь тремя показательными примерами.
Первый из них — это выставка, устроенная тремя видными представителями московского концептуализма и соцарта — Александром Меламидом, Ильей и Эмилией Кабаковыми — в известной нью-йоркской галерее «Апексарт» в 2006 году. Выставка называлась «Неоискренность»; идею ее названия предложил Арт Шпигельман[8]. Начиная с 2000 года этот американский комик говорил о том, что мы вступаем в век «неоискренности, то есть искренности, построенной на всепроникающей иронии, но позволяющей в действительности высказывать то, во что веришь»[9]. Организаторы выставки, позаимствовав неологизм Шпигельмана, всячески подчеркивали, что искренность может служить социально-политическим инструментом: авторы рассматривали искреннее выражение как эстетическую стратегию, помогающую справиться с историческими травмами, такими как советский эксперимент и Холокост[10].

Два года спустя литературовед Марк Липовецкий подхватил — правда, с изрядной долей скепсиса — идею «терапевтической» искренности. В своей книге «Паралогии» Липовецкий обосновывал существование русского «позднего постмодернизма» — течения, которое пытается восстановить «большие нарративы» прошлого. По мысли исследователя, в документальных жанрах этот «поздний постмодерн» стремится «к тому, что Д.А. Пригов… обозначил как “новая искренность”»[11]. Хотя сам Липовецкий настороженно относится к понятию «новая искренность», он использует этот термин для описания эссеистики целого ряда современных авторов. В его прочтении авторов, которых называют «по-новому искренними», решающую роль играют все те же категории истории и памяти. Литературовед прямо приписывает терапевтическую историческую функцию, например, воспоминаниям Гриши Брускина, художника, получившего известность в позднесоветских нонконформистских кругах, и прозаическим эссе Льва Рубинштейна. Для Липовецкого автобиографические «брускинские фантазмы» о жизни еврейского художника в СССР «способны преодолевать травму как след насилия и систематического террора»[12]. Сходным образом характерное для Рубинштейна смешение личного и исторического, по Липовецкому, есть «единственная доступная ему форма исторического сознания, позволяющая примириться с травмой и преодолеть ее смехом и в то же время — оберегающая от влипания… в дискурс идеологизированной “большой истории”»[13]. Это ясно указывает на природу шока, который «новоискренний» эссеист Рубинштейн стремится преодолеть: речь идет не об исторической травме как таковой, а именно о советской травме.
Постсоветская искренность связывается с проблематикой травматической памяти и в работах Алексея Юрчака. В 2008 году Юрчак обратился от изучения «стёба» к анализу того, что он называет «постпосткоммунистической искренностью». В течение 2000-х годов он изучал среду современных художников и характерные для них манифестации глобального тренда «новой искренности». По мнению Юрчака, их творчество свидетельствовало о «постпосткоммунистической», специфически российской, разновидности искренности — той, которая скорее приветствует, чем отвергает мифологию советского прошлого.
Постсоветский поворот к советской эстетике часто трактуют как реакционную ностальгию, но Юрчак полемизирует с этим прочтением. Последнее отвергает и другой антрополог, Сергей Ушакин, который рассматривает постсоветские формы активного переосмысления советского прошлого не как откровенно политизированное поведение, но как «акт механического ретроприспособления»[14]. Ушакин убежден, что обостренный интерес к советскому прошлому в современной России основан на желании «активизировать старые формы… и… заново обжить уже существующие структуры», а не на стремлении восстановить советскую систему[15]. В отличие от него Юрчак не отрицает политической направленности постсоветской ностальгии. В противоположность и тем, кто акцентирует политическую реакционность этих тенденций, и позиции Ушакина, он выступает за описание этой ностальгии в терминах «терапии». По его словам, в современном российском искусстве заметны сознательные попытки некоторых художников поладить с советским прошлым для того, чтобы «способствовать эстетическому построению будущего»[16].

Анализируя готовность «новой искренности» примириться с советским прошлым, Юрчак опирается на примеры, взятые из музыкального, визуального и анимационного искусства, а также на свои беседы с художниками, выросшими в Советской России. В каждом его примере тема памяти, которая интересует меня, оказывается ведущей. Один из таких примеров — ретросоветская группа «Ким и Буран». Юрчак цитирует музыкального обозревателя, который в 2005 году отмечал, что музыка этого коллектива «ностальгически окунает нас в “прекрасное далёко” советских фильмов о пионерах, мечтающих повторить судьбу Гагарина… в детское непосредственное восприятие жизни. Вот она, эта новая искренность! (курсив автора. — Э.Р.)»[17].
Идеализация советского прошлого играет не меньшую роль в творчестве молодой художницы Даши Фурсей, у которой Юрчак брал интервью для своего исследования. Фурсей, создающая безусловно позитивные образы знаковых фигур советской культуры и представленная в престижной лондонской галерее Саатчи, рассказала Юрчаку, что с начала 2000-х годов почувствовала новый интерес к «незапятнанности и искренности» советских образов и ценностей[18]. С точки зрения Юрчака, Фурсей и ее ровесники представляют «эстетику, обладающую своим собственным политическим потенциалом… основанную на возвращенных категориях искренности и идеализма»[19]. В заключение Юрчак высказывает мысль о том, что как поворот к новой искренности в современном русском искусстве, так и широкий общественный запрос на этот тренд являются «свидетельствами одного и того же современного явления переоценки истории советской модерности, изучения ее смысловых аспектов и отделения первоначально связанных с этой модерностью этических устремлений от политического режима, который некогда опирался на них в своих собственных целях».
Таким образом, Юрчак не только отмечает постоянный интерес к искреннему самовыражению, характерный для постсоветской России, но прямо помещает этот интерес в контекст исторических представлений, трактуя его как художественную попытку разобраться с недавним прошлым.
Независимо от того, как различаются их трактовки «новой искренности», Юрчак, Липовецкий, Кабаковы, Иванова и Эпштейн используют именно эту формулу (с небольшими вариациями), чтобы выразить общую идею. Каждый из них указывает на то, что искренность можно использовать в качестве терапевтического социального инструмента, средства в борьбе с коллективной исторической травмой. Да, Липовецкий испытывает недоверие к этой идее, сомневаясь в возможности воскресить искренность в постмодернистском мире. Однако, когда он дает свой (скептический) обзор интерпретаций «новой искренности», он солидарен с коллегами в одном важном моменте: все интерпретации так или иначе представляют дискурсивный тренд в качестве инструмента для преодоления культурной травмы.
Примечания
- ^ Epstein M. Conclusion: On the Place of Postmodernism in Postmodernity. P. 458.
- ^ Ibid. P. 456; Эпштейн М. О новой сентиментальности // Стрелец. 1996. № 2 (78). С. 225.
- ^ Иванова Н. Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век. СПб.: Блиц, 2003 (https://lit.wikireading.ru/30362).
- ^ Об искренности и советском прошлом см. также: Иванова Н. Ностальящее. Собрание наблюдений. М.: Радуга, 2002.
- ^ Цит. по: Бирюков С. Литература последнего десятилетия — тенденции и перспективы <интервью> // Вопросы литературы. 1998. № 2. С. 15.
- ^ Иванова Н. Искусство при свете искренности // Знамя. 2011. № 3 (http:// znamlit.ru/publication.php?id=4530).
- ^ Там же.
- ^ Там же.
- ^ Полное название выставки было следующее: «Неоискренность: различие между комическим и космическим — всего в одной букве» («Neo Sincerity: The Difference between the Comic and the Cosmic Is a Single Letter»). Ее куратором был Амей Валлах, выставка проходила в галерее «Апексарт» с 22 февраля по 8 апреля 2006 года.
- ^ Цит. по: Reid C. Art Spiegelman and Françoise Mouly: The Literature of Comics // Publishers Weekly. 2000. October 16 (https://www.publishersweekly. com/pw/by-topic/authors/interviews/article/18809-art-spiegelman-and-francoisemouly-the-literature-of-comics.html).
- ^ См. подробное описание выставки на сайте «Апексарт»: http://www. apexart.org/exhibitions/wallach.php.
- ^ Липовецкий М. Паралогии. С. 575.
- ^ Там же. С. 610.
- ^ Там же. С. 591.
- ^ Yurchak A. Post-Post-Communist Sincerity: Pioneers, Cosmonauts, and Other Soviet Heroes Born Today // Lahusen Th ., Solomon P.Jr. (eds) What Is Soviet Now? Identities, Legacies, Memories. Berlin: LIT, 2008. P. 257.
- ^ Ibid. P. 262.
- ^ Исходную цитату см.: Лучистый А. Слава Завьялов, группа «Ким и Буран» // Be-in. 2007. Февраль (http://www.be-in.ru/people/399- slava_zavyalov_gruppa_kim_i_bu/).
- ^ Цит. по: Yurchak A. Post-Post-Communist Sincerity. P. 265.
- ^ Ibid. P. 276.