Джеймс Бретт: «Для кого-то объекты Джеффа Кунса — ответ на вопрос о существовании. Но не для меня»
Джеймс Бретт — создатель и куратор «Музея всего», благотворительного проекта, коллекционирующего и экспонирующего произведения неизвестных художников-самоучек. За три года своего существования музей провел четыре выставки в Европе, в том числе в Тейт Модерн. Только что «Музей всего» закончил турне по городам России (Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва), где специальное жюри отбирало произведения для «Выставки № 5» в Центре современной культуры «Гараж». Марго Овчаренко в беседе с Бреттом узнала, почему искусство нельзя делить на «настоящее» и «ненастоящее», какие знаки свыше способствовали созданию «Музея всего» и как бороться с предрассудками по поводу художественного образования в России.
 Джеймс Бретт. Courtesy Museum of Everything
Джеймс Бретт. Courtesy Museum of Everything
Марго Овчаренко: Джеймс, как у вас появилась идея этого проекта?
Джеймс Бретт: Это был знак свыше. Вероятно, потому, что я видел много знаков свыше. Я имею в виду, что я коллекционировал такие «божественные знаки» — особенно много их на юге Америки, как, впрочем, и в России. Это, знаете, когда человек говорит: «Мне было явление, и это Господь велит мне рисовать». И я смотрел на это искусство и понял, что должен что-то сделать. Однажды я прочитал о пожилом мужчине Уильяме Бретте (у него такая же фамилия, как у меня), который жил на острове. Ему было 86 лет, он многое повидал в жизни и у него была особенная черта характера — он все хранил, все свои вещи, ничего не выбрасывал. Под конец жизни он купил школу, в которую ходил мальчишкой, и поселился там. Представьте себе: живет старик на острове в таком забавном здании, и все, что у него есть, — сотни, если не тысячи самых разных вещей, собранных в течение всей его жизни, — тоже там хранится. Я увидел фотографию, на которой он был изображен в своем «хранилище», и надпись: «Уильям Бретт в “Музее всего”». Это название появилось после того как дети из деревни пришли в дом к Уильяму и восхитились: «Это же музей, в котором есть все на свете!» Я поехал к нему и сказал: «Я бы хотел открыть отделение “Музея всего” в Лондоне».
Это одна история, а вторая — я просто видел много работ непрофессиональных художников, у которых было непреодолимое желание творить. Пациенты госпиталей, художники из глухих деревень. И, конечно, они не признавались арт-сообществом. Или их работы нравились профессиональным современным художникам, но не нравились кураторам. Мы сделали первую выставку этих работ в Лондоне, совместно с ярмаркой Frieze. Мне казалось, что никто на эту выставку не придет, и чтобы привлечь к ней внимание, я попросил написать о ней известных британских мастеров. В результате Эд Рушей, Грейсон Перри, Джон Балдессари, Ник Кейв — всего около пятидесяти художников и кураторов написали о первой выставке «Музея всего». Она длилась всего две недели, но это был грандиозный успех. Эд Рушей и Джон Балдессари решили заниматься продвижением это проекта. Они ходили по Лондону с флаерами, раздавая их со словами: «Это лучшая выставка, вы должны ее увидеть». И люди пришли. В итоге у нас появилась возможность сделать выставку в Тейт Модерн. В общем, краткий ответ на ваш вопрос: я смотрел на эти вещи и видел, что это искусство, и понимал, что это искусство, и решил с ним работать.
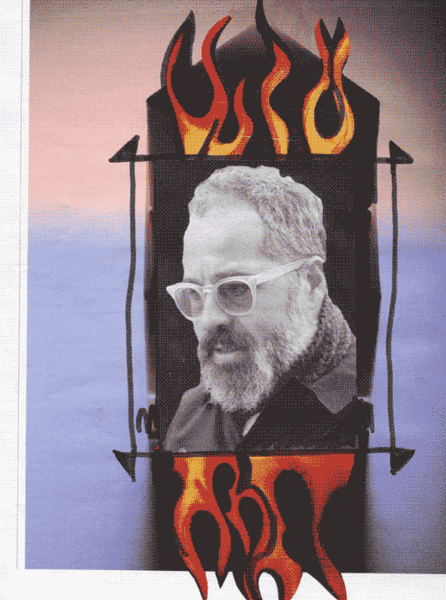

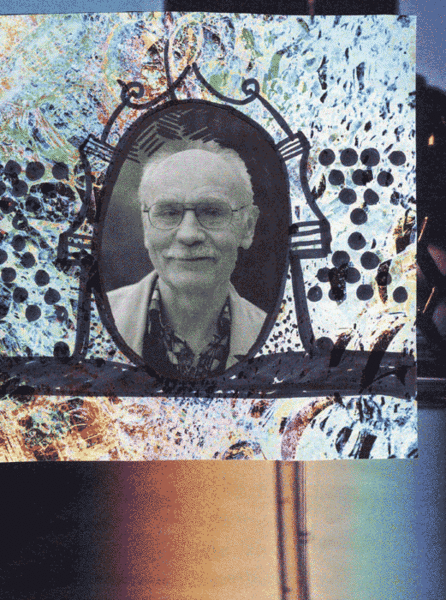
М.О.: Что для вас великое искусство?
Д.Б.: Проблема в том, что я ничего об искусстве не понимаю. Но большинство людей хотят знать, почему они живут. После еды, сна и зарабатывания денег большинство людей хотят понять смысл своего существования. А великое произведение искусства в какой-то степени объясняет тебе, почему ты существуешь. Но критерии очень свободные и личные. Для кого-то объекты Джеффа Кунса — ответ на вопрос о существовании. Но не для меня. Для меня вообще искусство, в основе которого лежит идея, концепция без формы, «не работает». Если спросить актера, что такое идеальная актерская игра, он ответит, что это когда ты не играешь. Потому что такая игра наиболее правдива. Точно так же и с искусством: искусство, которым я занимаюсь, обладает гораздо большей искренностью, чем многое другое. Оно неподдельно. Правда — прежде эстетики и умения. Великая заслуга современного искусства в том, что оно освободило нас от ограничений. То, как мы смотрим сейчас на изображение, радикально отличается от того, как мы смотрели на него сто лет назад.
М.О.: Были ли у вас сложности, когда вы запускали «Музей всего»?
Д.Б.: Думаю, я не буду оригинален, если скажу, что люди всегда сопротивляются новому. Мы так устроены, что нам нравится только то, что мы знаем. Тому, что я делаю, в основном сопротивляются люди, которые ставят во главу угла историю искусства, словно история — это и есть правда. Между тем любой историк скажет, что история — это вымысел. Так что история искусства — это очень ограниченный взгляд на процесс творчества, в котором лидирующая роль зачастую отводится случайным людям, которым был присвоен титул «художник». Особенно очевидно это в России. Здесь, если ты не получил соответствующего образования, ты не можешь считаться художником, и поэтому часто приходят настоящие профи, хотя мы ищем непрофессионалов, и заявляют: «Но я же не учился на художника». Почему-то в России наличие в дипломе об образовании строки «художник» является невероятно важным критерием. И это пример того, как образование может ограничивать.
Сильнее всего сопротивляется академическая структура. В прошлом году мы сделали выставку работ людей с нарушенной способностью к обучению. Для многих из них искусство — единственный способ связи с внешним миром. Я разговаривал с другом, очень известным куратором, и он мне сказал: «Джеймс, это очень хорошая выставка, но это не искусство — здесь нет историко-культурного контекста, нет никакой идеи». Это очень распространенное мнение о выставках «Музея всего», но я уверен, что это заблуждение. Хорошее искусство не нуждается в текстах. Эта идея о контекстуализации, идея Дюшана, привела к тому, что придя в музей в любой точке мира, мы встречаем человека, который контекстуализирует буханку хлеба. Для художников, которых мы ищем, существует прежде всего страсть к созиданию, а слова находятся на последнем месте. У них у всех есть созидательный инстинкт, и это то, что отличает человека от других живых существ. А критики и кураторы от академического мира сопротивлялись моего проекту, просто понимая, что созидательный инстинкт, который есть у всех, делает их работу бесполезной.
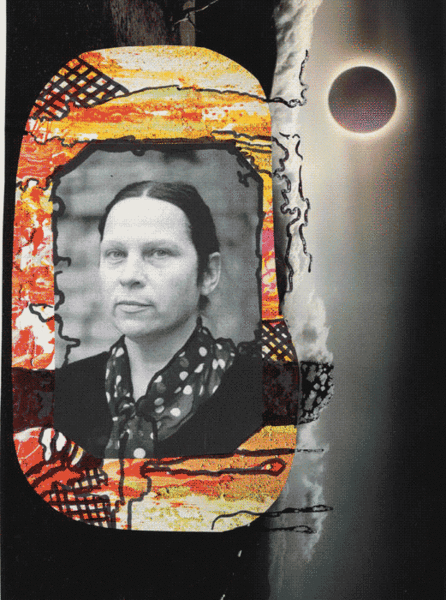

Конечно, мы все фильтруем в той или иной степени. Google — гениальный фильтр. Но мы гораздо более демократичны в сравнении с другими институциями. Тем не менее я хочу сказать, что публика на выставках не испытывает ни малейшего неприятия того, что мы выставляем. Художники говорят: «Вау! Я хочу быть как эти ребята, я устал от моего галериста, устал участвовать в арт-ярмарках, хочу просто сидеть и рисовать» Синди Шерман, глядя на нашу последнюю выставку, сказала, что не может сопротивляться творческому вдохновению, находясь в мастерской, где работают наши артисты. Потому что так начинали все художники — им просто хотелось рисовать или лепить, и было наплевать на все остальное. Эту правдивость и искренность трудно сохранить, и Шерман сумела это сделать, даже если учесть, что ее карьера развивается прекрасно. Я лично очень люблю Шерман и ценю тот факт, что она признает в художниках с трудностями в развитии как раз высокий уровень развития, позволяющий им отгородиться от внешнего мира и творить.
«Музей всего» — это нарратив. У каждой выставки есть начало, середина и конец. Нейтральности в выставочном пространстве не существует. Когда мы делали первую выставку, мы изменили само пространство музея, потому что, изменив пространство, вы меняете самое восприятие искусства, которое в этом пространстве существует. Я привнес эту концепцию из кино. Белые стены не существуют в реальности. Белая комната, белый куб созданы для поддержания рынка. Потому что в абсолютно белом пространстве даже собачья какашка на полу — это «вау!» Или если в интерьере прекрасного дворца поставить на пол включенный телевизор, то все будут смотреть именно на него как на самую яркую вещь. Это не в нашем стиле.
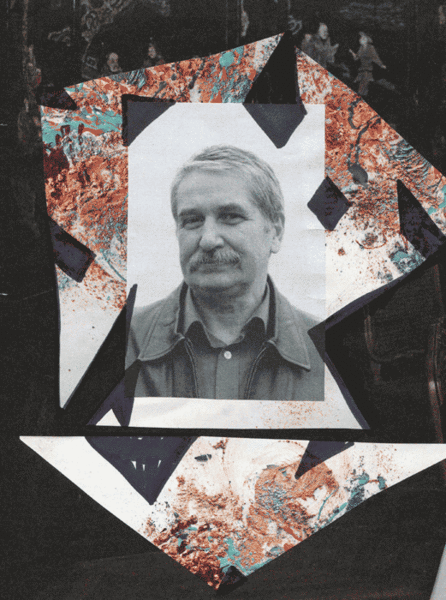

М.О.: Какая разница между вашим музеем и музеями ар брют?
Д.Б.: Одна из причин, по которой я основал «Музей всего», — это то, что ничего подобного не было в Британии. Все музеи ар брют существуют так, как будто им стыдно за свое существование. То, что сделал Жан Дюбюффе, было великолепно: он «узаконил» существование художников в психиатрических больницах, слепых художников и пр. Но на самом деле он создал гетто. Я думаю, изначально его идея состояла в том, чтобы показать то, что существует за пределами мира искусства, известного нам, а в итоге все равно остались те, кто делают «настоящее» искусство, те, кто делает «ненастоящее». Есть мы — нормальные, и они — странные. Но дело в том, что все — странные, все мы ограничены в чем-то. И любой недостаток становится достоинством в зависимости от того, как на него смотреть. Я верю: то, что мы создаем, — это не отдельная идея, а часть процесса интеграции. Музеи ар брют имеет очень ограниченную аудиторию. Поэтому мы работаем с такими центрами, как «Гараж, — с большими арт-институциями. Я люблю музеи ар брют, все, что я делаю, я узнал от них. Но смысл в том, что «Музей всего» берет идеи ар брют и помещает их в контекст XXI века. Больше демократии, меньше слов.
М.О.: Вы заметили разницу между русскими художниками и художниками из других стран?
Д.Б.: Язычество, христианство, советизм, натуризм, коммунизм, путинизм, перестройкизм (все довольно уникальное)... Художники, которых мы встретили здесь, невероятно интеллектуальны, вне зависимости от того, какое у них прошлое. Многие из них боятся выражать себя. Этого вы не могли бы встретить в Англии. Потому что там гораздо более открытое общество. Здесь же люди счастливы встретить нас, выразить себя и поговорить о своих работах. Многие из них понятия не имеют о том, что они создают искусство. Большинство лучших художников, которых мы здесь встретили, сами себя не считают художниками. И самое удивительное — то, что они к нам приходят. Вот мужчина, придумавший собственную систему кодификации, которую он использует в своих книгах, — диаграммы, схемы, целый язык, который, который только он способен понять. И мы сказали ему, что с удовольствием выставим его работы на финальной выставке в «Гараже», и есть только одна проблема — он должен начать считать это искусством. И он ответил: « Я с удовольствием». Потому что научное сообщество отвергло его, культурное сообщество отвергло его, никто не слушает его. Глядя на эти работы, я понимаю, насколько они уникальны и прекрасны, и понимаю, что ни одна другая институция не признала бы их. Конечно, мы находим подобных художников по всему миру, но мне кажется, что в России их гораздо больше. И только наследие СССР, где художественное училище являлось своеобразной церковью, не позволяет им легитимизировать то, что они делают. Многие извиняются, что не ходили в художественный институт. И еще они боятся показать свою «русскость», многие работы выглядят достаточно интернациональными. Почему такая гигантская страна не показывает свою идентичность? Это грустно.

Отбор произведений на «Выставку № 5» в Москве комментирует Марина Яминова, создатель арт-терапевтической студии, исследователь клинического искусства, куратор:
Меня рекомендовала сюда художник Лиза Морозова, мой учитель и коллега. Я слышала об этом проекте раньше, и мне было весьма интересно увидеть всю кухню изнутри. Имея за плечами искусствоведческий и кураторский опыт, я могу сказать, что происходящее здесь мало чем отличается от обычной кураторской работы. Если ты работаешь в сфере профессионального искусства, к тебе точно так же приходят люди, показывая свои художественные работы. Есть те, кто стремится зарабатывать и выставляться, а есть те, кто не думают ни о чем подобном — просто «не творить» они не умеют. И это не про наличие академического опыта, это их способ выстраивать отношения с этим миром. Эти художники едва ли понесут свои работы в такого рода проект, и все же я была свидетелем нескольких «удачных находок». Я считаю, что искусство — это прежде всего способ налаживания изначально утраченных связей. Вечный поиск. Остановки тут смерти подобны. Безусловно, сейчас период в истории искусства непростой, но благоприятный — время чистых экспериментов, самоопределения, «выхода на улицу». Проект «Музей всего» — прекрасный старт для непрофессиональных художников, и мне хочется верить, что о некоторых из них мы с вами еще неоднократно услышим.




