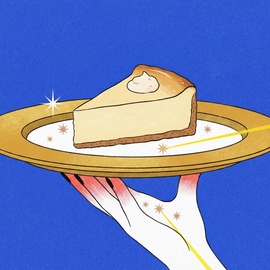Ольга Медведкова. Лев Бакст, портрет художника в образе еврея
В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга историка искусства Ольги Медведковой — она решила взглянуть на жизнь Льва Бакста с точки зрения микроистории и реконструировать его интеллектуальную биографию. Ключевой для ее исследования стала еврейская тема, неразрывно связанная с творчеством художника. Сама Медведкова определяет место своему труду в пространстве «между действительностью и мечтой, между фактами и рассказом о них, где и сплетается личность Бакста, и формируется его многогранная идентичность». С любезного разрешения издателя «Артгид» публикует фрагмент главы, посвященной одному из главных произведения Бакста — картине «Древний ужас».
 Лев Бакст. Древний ужас. 1908. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Лев Бакст. Древний ужас. 1908. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Очень личной и, как нам кажется, автопортретной была картина Бакста Terror Antiquus или «Древний ужас», завершенная им после возвращения из Греции в 1908 году и показанная сначала на Осеннем салоне того же года в Париже, а затем, в 1909-м, на петербургской Выставке живописи, графики, скульптуры и архитектуры, организованной Сергеем Маковским в здании дворца Меньшикова на Васильевском острове и прозванной Салоном Маковского. В Париже картина имела громкий успех. Критик «Фигаро» Арсен Александр — тот самый, что в 1913 году напишет первую книгу о Баксте — назвал ее «гвоздем Салона». В Петербурге картина привлекла внимание «цвета культурного общества»: Иннокентий Анненский отозвался на нее длинным письмом (оно, к сожалению, не сохранилось), в котором, по словам самого Бакста, поэт объяснил «внутренний смысл символов, которыми художник пользуется часто своим бессознательным умом-творчеством». Бакст беседовал о картине и с Розановым; говорили они о «таинстве, о присутствии в космосе Божества».
Гравированное изображение с картины было помещено в первом номере журнала «Аполлон». В 1910 году картина была показана сначала в Москве, а затем на Международной выставке в Брюсселе, где была удостоена первой золотой медали; в 1911 году — в Риме, в 1912-м — в Праге, а в 1913-м — в Лондоне. Развернутыми статьями отозвались на нее Александр Бенуа, Максимилиан Волошин и Вячеслав Иванов. Скупой на похвалы Бенуа писал в газете «Речь»: «Картину Бакста я считаю очень серьезной культурной ценностью; в нее вложено больше, нежели то, что можно вычитать из нее в беглом осмотре выставки. Это произведение сложной и значительной душевной работы. Притом картина сделана с таким выдержанным мастерством, каким редко кто владеет в наше время. Ее место в музее».

А вот как описывал картину Левинсон: «На первом плане, обрезанная рамой по колено, высится колоссальная архаическая Киприда. Волосы идола венчают ее каннелированными волютами, крупные раскосые глаза с выпуклыми зрачками магически неподвижны, жестокая гримаса приподнимает углы губ. В ладони богиня держит голубую голубку. Сложно моделированная фигура показана спиной к происходящему, к разбушевавшейся стихии, к паническому ужасу людей. Бесчувственная, неумолимая, она отворачивается от этого гибнущего мира. За статуей взгляд тонет в пейзаже, архипелаге, увиденном с чудесной высоты, распластанном как рельефная карта: скалы, потопляемые напором вод, крохотное человечество, прячущееся под портиками храмов, спасающееся от неизбежного, тогда как гигантская молния перечеркивает небо. Это закат богов, страшный суд эллинского мира: конец Атлантиды. Таинственной смесью застывшего величия и безумного отчаяния это панно, выставленное, если я не ошибаюсь, в Ассоциации Русских художников, поразило публику. Все заспешили на лекции поэта-философа, автора трактата о Дионисе и религии бога-мученика, Вячеслава Иванова, на которых он комментировал этот греческий Апокалипсис».
Сам же Бакст писал Бенуа из Парижа: «Была очень счастливая пора недавно для меня, когда я вернулся из Греции и не спеша, как хорошая английская корова, медленно пережевывал вынесенную из архаической Греции жвачку. <…> Я теперь знаю, что значит conviction ferme (твердая уверенность, — прим.ред.) — реально знаю. Горы трудности впереди, а приятно, что есть несомненная цель и… невыдуманная. В этом — смысл жизни, художника в особенности». Эти выражения — «твердая уверенность», «невыдуманная цель» — достаточно ясно свидетельствуют о том, до какой степени — совершенно в духе Сент-Бёва — эта картина на «далекий», казалось бы, античный греческий сюжет была для Бакста интимно личной. В чем же выражалась эта его твердая уверенность? Ответ на этот вопрос мы находим в письме к Розанову, написанном в Париже 18 ноября 1907 года, то есть в разгар работы над картиной.
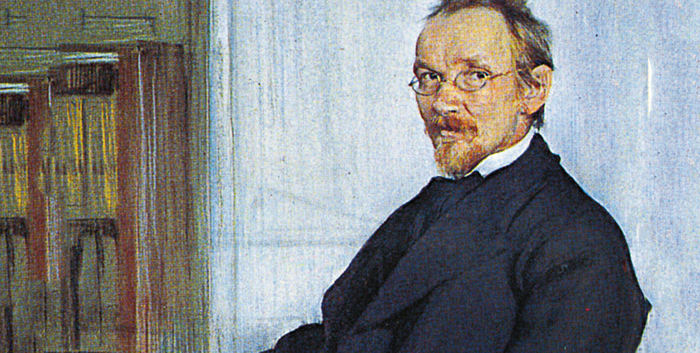
Бакст тогда рисовал также уже упоминавшуюся нами обложку к «Итальянским впечатлениям»: «Я читаю Вашу книгу подряд и с редким наслаждением. Мне даже совестно быть до того согласным с Вами — а вдруг просто по глупости? Но нет! Я всегда так думал, в эту сторону, не так ярко и проникновенно, но так же убежденно. Одно время я был смущен Христом! Но недаром я еврей — меня потянуло „к земле“, к природе — в ней искал того, чего не мог дать мозг, построенный метафизически. Я понял великий закон природы — „непрекращаемость жизненной энергии на земле“; так природа хочет, это ее цель, и все нравственные законы идут отсюда. Здесь и залог бессмертия, здесь и надежда человечества — на земле».
В том же письме Бакст критиковал отрешенность христианства от всего «земного» с точки зрения очень близкой и Розанову, и Ницше: «Что впереди? Смерть? Да, на земле — Христос этого хочет. Толстой не скрывает, что в венце христианства — смерть. Его с испугом спрашивают, как же, ведь род человеческий прекратится? Да, прекратится, и слава Христу». Как и Розанов тех лет, Бакст противился не только презрению, но и недоверию ко всему жизненному, живому и живущему; не только пассивному (хорошо, когда голодно, холодно, грязная сорочка…), но и активному, развлекательно-пошлому (раз жизнь не ценность, остается побриться, сходить в театр, посмеяться) к жизни отношению. «Нет, у меня сердце дрожит от восторга при виде величественной борьбы со смертью и забвением, которую тысячи лет вели египтяне и иудеи; их смерть не „страшная, черная ночь“ греков и не путь к спасению Христа; смерть их есть бесконечное воскресение в потомках, вечная „перемена“ на земле».
Переживая первые радости своего собственного отцовства, Бакст особенно отчетливо, убежденно и обнаженно заявлял себя «евреем» — хотя это его «еврейство» и походило больше на ницшеанство — и распевал жизни, «Богу земли», «Богу детей, животных и цветов» Заратустрову песню радости.

Чуть позднее, в письме к Нувелю от 15 октября того же 1908 года, он развивал это свое «интимное убеждение», сближая евреев с греками — древними, а заодно и с современными, — используя уже знакомую нам генеалогическую модель: «Греки были, как евреи, почти тем же, что они и теперь, proportion et majestuosité gardées (не желая никого задеть, — прим.ред.). Античные греки, в их стремлениях и идеалах, были, прежде всего, самый благочестивый народ в самом узком даже смысле этого слова из всех народов античного и нового мира; благочестивый человек предпочитался ими герою, и его уважали и боялись больше всего». В этом благочестии нельзя, настаивал Бакст, смешивать греков с римлянами, ценившими более всего героизм и патриотизм. В подтверждение он цитировал Семеро против Фив Эсхила, приводил в пример — видимо, по Плутарху — историю афинского генерала Кимона, отказавшегося в неугодный богам день воевать против Сиракуз и за это не только не наказанный, но даже проставленный афинянами. Этот поступок Бакст сравнивал с еврейским законом в пользу более строгой греческой религиозности: ведь даже Моисей позволил воевать в субботу, когда речь пошла о жизни его сына. После благочестивости греки, как и евреи, больше всего ценили мудрость «и рядом с ней хитрость».
Тут Бакст подробно цитировал Гомера и останавливался на самом понятии «мудрости» не как дара, и даже не как накопленного опыта, а как намерения, синонима «обдуманности поступка», перед совершением которого необходимы пауза, отстранение, погружение в «глубокое молчание». «Медлительность в решении и жульничество, не напоминают ли тебе, — спрашивал Нувеля Бакст, — все эти procédés (приемы, — прим.ред.), то, как действуют современные греки?».

Современные греки и евреи являлись, стало быть, родственниками: первые — прямыми, а вторые — непрямыми наследниками древнегреческой культуры. Для того чтобы понять это родство, необходимо было греческую культуру видеть такой, «какой она была», а не идеализированной. Те народы, которые так ее воспринимали, и являлись, собственно, ее законными наследниками, имевшими право распоряжаться ею свободно и творчески. «Видеть во весь рост без прикрас и любить тоже без прикрас» — таков был выдвигаемый Бакстом принцип наследования, бывший одновременно и принципом вообще всякой любви, чувствовавшимся и в его портрете жены: «во весь рост и без прикрас».
Тема еврейского сходства с древними греками, понимания и наследования истинной, не замученной академизмом Греции была с новой силой сформулирована Бакстом несколько позже, в другом письме Нувелю . Этот текст является для нас наиважнейшим; мы, по сути, добрались здесь до цели нашего повествования. Все предшествующее исследование нам и понадобилось, чтобы правильно прочесть эти слова Бакста. И если нам это удастся, мы будем считать, что сделали свое дело.
«Ты все-таки неправ… — писал Бакст. — Чем провинилось еврейское миросозерцание? Совсем меня не удивляет, что в христианстве (истинном) больше еврейства, чем в эллинизме, и это просто, ибо Христос был истый еврей своей эпохи, ничем не отличавшийся ни от Гиллеля, Шаммаи, даже Барг-Кохбы!? Но огромная пропасть эллинизма и иудаизма — еще вопрос».

Остановимся здесь на минуту, чтобы снова удивиться тому, как легко и естественно вел Бакст теоретический спор, как умело использовал отвлеченные понятия, как аргументировал. Говоря о близости христианства и иудаизма, он возвращался к темам юности, к тем годам, когда еще в Академии и по выходе из нее задумывал свою картину о Христе и Иуде. Только теперь, вводя понятие «миросозерцание» и сравнивая христианство и иудаизм, а затем иудаизм и эллинизм на этой основе, интеллектуально окрепший Бакст явно отсылал своего оппонента к тем новым теоретическим основам, о которых мы уже писали, и в частности к понятию «ментальности» Фюстеля де Куланжа.
Ментальность, как мы помним, основывалась у последнего на религии, но с ней полностью не совпадала. Из ментальности (а не напрямую из религии) проистекали у Фюстеля социально-политические институты, созданные разными народами. Чтобы углубить свою мысль о близости между евреями и древними греками, Бакст, стало быть, сближал их по принципу миросозерцания, которое, как воздушная прокладка, располагалось между религией, с одной стороны, и социумом и культурой — с другой. Собственно «еврейство» и было для Бакста такой фюстелевой ментальностью. Не поняв этого, мы «еврейства» Бакста не поймем. Ибо еврей у Бакста являлся таковым не по религии, а именно по ментальности. Религия же, из которой эта ментальность произрастала, и у греков, и у евреев основывалась на одном и том же главном принципе, а именно на единобожии. Греки, по мысли Бакста, использовавшего наработки своих друзей-философов, и в первую очередь Мережковского и Розанова, были монотеистами. Конечно, не на народно-мифологической поверхности, а в самой глубине своей.

«В лучших своих произведениях художественных и философских» они были «фаталисты, верующие, что ошибка непременно влечет и наказание, и их Мойра, в сущности, и есть Иегова — implacable, comme la nature offensée (неумолимый, как оскорбленная природа, — прим.ред) — преследующий грех, ошибку из рода в род, как и Природа». В подтверждении этих слов Бакст снова обращался к образу хитроумного Улисса, являвшегося воплощением греческой ментальности, столь близкой еврейской. Напомним, что примерно в это же время Джойс писал свой роман Улисс, действие которого происходило 16 июня 1904 года и главным героем которого являлся дублинец еврейского происхождения Леопольд Блум.
Упоминание о Мойре — образ которой уже появлялся у Бакста, как мы помним, в иллюстрации к стихотворению Бальмонта «Предопределение» — как о «в сущности» Иегове объясняет нам не только общий замысел «Античного ужаса», но и тот факт, что картина стала одной из реализаций «еврейского» проекта Бакста. Ибо картина эта изображала именно Мойру, смотрящую на зрителя, повернувшуюся спиной к устрашающему зрелищу катастрофы, разрушающей огнем и водой какую-то древнюю цивилизацию.
Об «Античном ужасе» написано много, но никто, похоже, не заметил очевидный иконографический прототип женской фигуры с голубой птицей в руке. Им, несомненно, является греческая кора с Афинского Акрополя, держащая большую птицу в руке и хранящаяся в Лионском музее. Изображение этой коры помещено в уже упоминавшемся нами издании Перро в двух фотографиях с указанием на ее принятое в литературе название — «Венера с голубкой». «Что касается имени, данного статуе, — писал Перро, — оно, кажется, подходит ей как нельзя лучше. Голубка, которую она держит в руке, является символом культа Афродиты, и поэтому думается, что изображение представляет собой богиню, а не одну из ее почитательниц; голова ее увенчана полосом, а ведь только божества носили такой головной убор. Обратим также внимание на выражение, которое художник сообщил ее лицу, на эту улыбку. Не чувствуем ли мы здесь усилие, более похвальное, чем успешное, сообщить Афродите именно то выражение, которое приписывали ей поэты?».

Жест Мойры в картине Бакста почти идентичен жесту лионской коры, хотя мы знаем, что кисть руки художник, никогда не порывавший связь с натурным рисунком, писал с жены. Высокий коронообразный головной убор (полос) лионской статуи не воспроизведен, зато сохранена улыбка. Как мы помним, в статье Розанова «Звезды» речь шла об иудейском «бескровном» жертвоприношении голубок. Соединяя в себе Афродиту, Мойру или самого иудейского Бога, Бакстова фигура была не столько «религиозной», сколько «священной» в том синкретическом духе, в котором творили тогда как историки, так и поэты-символисты. Открытая и интимно пережитая Бакстом близость эллинского и еврейского миросозерцаний давала ему право не только на свободное, образное воплощение этой «священной» темы, но еще и на творческое, активно-родственное отношение к древнегреческой культуре. Представлял ли себя Бакст, работая над картиной, неким культурным героем, одновременно наследником Улисса и почитателем Иеговы? Нам это кажется несомненным.
В своей книге «Религия и культура» Розанов, ссылаясь на идеи Рудольфа Фридриха Грау (1835–1893), писал, что целью человеческой истории является слияние арийских и семитских генотипов и культур. Арийцы, объяснял Розанов, были учеными, политическими деятелями, художниками, одаренными миметическим талантом. Семиты же были религиозными мистиками, лирическими поэтами и музыкантами, способными к выражению невидимых миров. Читал ли Бакст эту книгу или просто беседовал об этом с Розановым, но идея идеального синтеза Библии и Гомера — идея, которая с новой силой будет развита в 1946 году Эрихом Ауэрбахом в его Мимесисе, — не могла ему не понравиться.
И, наконец, последнее обстоятельство, также писавшими о Баксте не замеченное. В том же 1908 году на афише Московского Академического театра появилось объявление о представлении «Синей птицы». Спектакль был поставлен Станиславским по пьесе Мориса Метерлинка (1862–1949), одного из любимых писателей Розанова, называвшего все их романтическое поколение «метерлинковцами». Не залетела ли синяя голубка в картину Бакста прямиком из этой постановки?