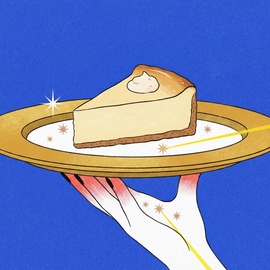Георгий Литичевский. Песня о Москве
«Художественный журнал» — издание, с которого для многих началось приобщение к теории, истории и практике современного искусства, издание, по которому историкам искусства будущего предстоит судить об искусстве конца XX — начала XXI века. «Артгид» начинает новый проект — оммаж «Художественному журналу». Несколько раз в месяц мы будем публиковать ключевые тексты из архива «ХЖ», выбранные, по нашей просьбе, авторами и сотрудниками редакционного совета издания. Для первой публикации основатель журнала, куратор и художественный критик Виктор Мизиано выбрал лучший, по его мнению, текст первого номера «ХЖ» (1993) — эссе художника Георгия Литичевского «Песня о Москве». Итак, «советского искусства больше нет...».
 Группа БОЛИ (Фарид Богдалов, Георгий Литичевский). Большая игральная кость — неоновый фейерверк. Фестиваль Еxercices esthétiques (куратор Виктор Мизиано). Музей Кусково, 1991. Courtesy Георгий Литичевский
Группа БОЛИ (Фарид Богдалов, Георгий Литичевский). Большая игральная кость — неоновый фейерверк. Фестиваль Еxercices esthétiques (куратор Виктор Мизиано). Музей Кусково, 1991. Courtesy Георгий Литичевский
Рим уже больше не то, чем он был.
Нет больше имперского города.
Нет больше сумасшедшего общества.
Куда податься? Берлин? Ванкувер? Самарканд?
Трижды блажен, кто введет в песнь имя.
Советского искусства больше нет. Теперь оно отошло в область истории вместе с одноименным государством. Но остались ныне здравствующие и полные сил художники, до последнего времени считавшиеся советскими, и в ближайшем будущем им предстоит решить вопрос об идентификации. Впрочем, поиск в этом направлении начался еще до официальной отмены СССР. Например, три года назад в каталоге «Исkunstво» рядом со статьей, в которой употребляется вполне каноническое определение «советское искусство», можно было встретить статью, в которой определение «советское» используется гораздо реже и, вероятно, менее охотно, чем применяемые в качестве синонимов такие определения, как «русское» (преимущественно в значении «не немецкое») и «московское». Теперь в нашем распоряжении только эти два слова, которыми можно идентифицировать остающиеся в известной мере невостребованными явления художественной культуры, если только, ограничившись определением «современное искусство», не отказаться от категории пространства. Сразу видно, что определение «русское» проигрывает «московскому». С одной стороны, «русское» слишком общо и не заключает в себе специфики. С другой стороны, слишком узко, ибо не отвечает универсалистским амбициям. Указывать же на свои связи с Москвой, на московское происхождение — уже давняя традиция. И именно потому, что советская империя считалась наследницей Московского государства, а Москва – эпицентром экспериментального этатизма. Не случайно одна из последних эстетических разработок проводилась на тему «Москва – третий Рим».

Однако теперь, когда роль Москвы не так очевидна, невольно возникает вопрос, а была ли в действительности Москва когда-нибудь в положении третьего Рима? Ведь до Петра Первого так назывался только проект в рамках некой державной сверхзадачи. Затем центр по ее решению переместился на берега Невы, и Москву оставили на пару столетий в покое. В свою очередь, восстановление метропольных прав Москвы после 17-го года сопровождалось нарушением многих других правовых норм, связанных с римской традицией. Никто не знает, что стало бы с идеей третьего Рима, если бы события развивались эволюционно, но поступательный ход событий был в очередной раз прерван, и мираж этой идеи, вдруг возникнув где-то на горизонте, так же внезапно рассеялся вместе со всеми галлюцинациями позднесоветской эпохи (пусть даже ненадолго).
Но если Москва не была никогда третьим Римом, чем же она была на самом деле? Не считать ли ее просто городом, таким же, как любой другой город? Вряд ли у кого язык повернется ответить утвердительно. Не о Москве ли принято говорить, что это большая деревня? Да и те сквозняки, что царят на ее слишком широких проспектах, крайне редко могут быть приняты за вольный ветер, и в них порой совсем отсутствует аромат того воздуха города, который, как известно, делает свободным. Она всегда была либо пограничным фортом владимирских князей, либо резиденцией московско-российско-советских деспотов. И в таком случае, говоря о московском искусстве, до последнего времени имели в виду не искусство города Москвы, а столичную модификацию искусства Московского государства, при всей своей элитности отвечающую не столько за себя, сколько за все государство.

Сложность текущего момента, однако, состоит в том, что о Московском государстве сказать сейчас что-либо вразумительное еще труднее, чем о Москве. По крайней мере, ее местоположение, границы и даже названия более стабильны, чем у располагающихся вокруг нее территорий, некогда составлявших единое целое. Эта все возрастающая непроясненность вопроса о территориях государства, сопровождающаяся все большим усилением автономии Москвы по отношению к некогда подвластным ей территориям, говорит, пожалуй, не об упадке идеи государства вообще, а о переносе акцента с мультитерриториальной державности (imperium) на гражданское устройство (civitas), от империи – к городу-государству или просто городу.
По всей видимости, и нынешнему московскому искусству предстоит переместиться на твердый асфальт городских мостовых, предпочтя их истончающейся пыли просторов державности. Москва вполне может дать приют такому городскому искусству. Даже если она и не была городом в полном смысле слова, у нее есть все основания, учитывая и определенный уровень урбанизации, и извечно высокий удельный вес вольнодумия, чтобы стать им. Однако московское искусство не может ждать, когда произойдет окончательная урбанизация, и вынуждено в известной мере опережать события, ориентируясь не столько на реальную Москву, сколько на некий проект Города, который ему предстоит осуществить. В рассказе Борхеса «История воина и пленницы» феномен Города описывается через его противопоставление не-городу, Пампе. При этом в выразительной форме проводится мысль о симметричной дополняемости города и диких территорий. Можно сделать вывод о том, что, независимо друг от друга, в чистом виде они существуют лишь на психологическом уровне, причем для этого требуется психика человека «со стороны», в данном случае германского воина, влюбившегося в Равенну и предавшего своих ради защиты этого города, и англичанки, которая не в состоянии вернуться в мир цивилизации, оставив похитившую ее пампу. Очевидно, сами по себе Город и Пампа лишены онтологической значимости. Онтологический эффект происходит от их сбалансированности. В этом смысле распределение ролей Города и Пампы между Москвой и окружающими ее территориями могло бы вселить надежду на некоторое прояснение установившихся отношений, на устранение дисбаланса, на онтологизацию и депсихологизацию обстановки.


При этом важно уяснить, что речь идет не об иерархии, а именно о сбалансировании. Из модели Борхеса не должно вычитываться соотношение города и пампы как соотношения следствия и причины, цивилизации и дикости, высокого и низкого, сложного и простого. В известном смысле пампа сложнее города, она, в свою очередь, не исчезает бесследно с экспансией цивилизации. Но и на просторах нецивилизованной пампы можно предполагать какие-то точечные разрывы в ее индейской монотонности, чреватые первоэлементами городского уклада. На всем своем протяжении поверхность пампы испещрена бесконечным письмом дорог и тропинок, по которым передвигается владеющее ею племя. Ее беспредельная реальность насквозь пропитана системой символических многозначностей, выработанных индейским сознанием. Это господство значимостей, подавляющее подчиненную ему реальность, прекращается там, где каллиграфическая линия индейской тропы натыкается на перекресток с другой тропой, по которой идет другое племя, со своей системой значений, но, однако, иной и потому ничего не значащей, отменяющей привычную систему значений.
Встреча с неведомым иным означает нежелательное столкновение с непокорной, необозначенной враждебной реальностью, и первая и естественная реакция – физическое уничтожение. В силу обстоятельств, связанных с недостатком средств физического воздействия, вступают в дело механизмы сублимации, поле битвы превращается в импровизированную базарную площадь, на которой происходят торг, обмен товаром, и прежний враг превращается в товарища, другой – в друга, hostis – в гостя, ксенофобия сменяется евксенией, возникает самочувствие, предшествующее возникновению города.

Утилитарные предметы, оружие в ходе обмена утрачивают свою символическую значимость, которой их нагружает мифологическое сознание, и, выпадая из-под власти языка символов, снова становятся фрагментами реальности. То же, что в них было привнесено сверх полезности, воспринимается в этом предгородском пространстве как красота и соблазнительность. А возможно, с этой первой встречи все и началось, и одинокое блуждание по просторам пампы последовало уже после мирного расставания внезапно столкнувшихся племен. Возможно, обычная вещь только в ходе этой встречи приобрела символическое значение чего-то превосходящего эту вещь: дара, искупительной жертвы, воплощенной воли к уживчивости и, следовательно, выживанию, суггестируя при этом свою соблазнительность. Уже затем, утратив свое первоначальное седуктивное очарование, она обрастает в метафизическом покое прерий дополнительными мифологическими построениями номадного сознания, предоставленного «внутреннему диалогу». Пампа может снова и снова исторгать из себя лишние, недостойные ее племена, не умеющие постоять за себя, недостаточно убежденные в правоте своих космологий, и тогда те отправляются на поиск себе подобных изгоев, чтобы в символическом эротическом акте, разделив с кем-то бессилие одиночества, умножить силы совместного выживания (синойкизм), восполнив прорехи космологических убеждений вещественно-суггестивным урбанизмом, ибо город – это еще и ограда, стены, а также ворота, проемы, анфилады, проспекты, многократно преумножающие седуктивный характер города. Впрочем, это еще и сад-огород, город-сад, сад вообще, если угодно – Эдемский сад, одновременно архетип и антипод одичавшей лесостепи, семантически начало всех начал. Невозможно разобраться, что чему предшествовало, и приходится признать, что единое по своей сути человеческое существование уже издавна мечется между двумя ностальгическими образами города и пампы. При этом с городом связывается мечта о запретном плоде, о соблазнах, об эротической свободе выбора, о свободном праве бросить вызов реальности и возвыситься над ней суггестивным путем изобретательной артистичности, в то время как на пампу возлагаются надежды на то, что здесь реальность раскроет свои секреты безупречным номадам, до предела расширившим возможности своего тонкого сознания и отшлифовавшим свой язык до невероятных способностей считывать и символически воспроизводить всю цепь многозначных проявлений неисчерпаемой пампы. Но и то, и другое является лишь мысленным проектом, по меньшей мере с тех пор, как поверхность земли покрылась городами и все территории подверглись воздействию цивилизации. Они существуют неотъемлемо друг от друга, одерживая попеременные победы в их взаимном неразрешимом антагонизме. При этом вольный город не отказывается от энергетической эксплуатации округи, а эти самые округи или, если угодно, деревня, провинция и т. п., технологически очарованная городом, мстя ему за унижение, старается поглотить его, парализовав его вольности под сетью провинциальных предрассудков и идеологий, навязывая городу свой физикализм, изгоняющий артистичность – основу основ города.

Риму, не избежавшему судьбы всех городов, конечно, повезло. Возникнув от избытка юной энергии молодых мужчин, сразу после возникновения городских стен приступивших к похищению женщин у соседних племен, этот город с самого момента своего основания явил такой неукротимо урбанистический дух, что никакой груз империи, никакая зависть провинциалов и периферийных варваров, никакая ржавчина инородных эзотерических идеологий, никакие физические разрушения и пожары не смогли отнять у него эталонной славы urbis aeternae. Он был и остается «родиной всех человеческих душ», как говорил Гоголь, и, от себя можно добавить, прежде всего художественных душ, хотя, как известно, jedes Mensch ein Kunstler. Однако, как видно из эпиграфа к данному тексту, это ясно далеко не всем и на территориях бывшей Западной империи. Рим воспринимается отлично от той высокой оценки, которую дает ему сторонний выходец из Московского государства. По правде говоря, для нас, москвичей, теория симулякров лишена всякого смысла. Приезжая на Запад, мы видим все предельно аутентичным и совершенно соответствующим нашим априорным представлениям. Наше разочарование происходит не от того, что все вокруг симулятивно, а от того, что здесь, на Западе, мы встречаемся, наоборот, с реальностью, но только с той же по сути, что мы оставили у себя дома. Напротив, возвращаясь в Москву, сталкиваешься с присутствием здесь еще чего-то, чего нет нигде. Такое положение дел говорит скорее не о неадекватности западного интеллектуального самосознания, а о действительном кризисе идеологии global village, их оптимистической мечты о мировой империи информатики, и наоборот, о том, что только здесь из недр московской Пампы начинает пробиваться действительная мечта о новом Городе. Москва, которая так никогда и не была городом, именно поэтому и заслуживает надежды на то, чтобы стать им. Рим, однажды вырвавшись из плена племенного однообразия, пережил республиканскую, имперскую и папскую эволюции, революционные пожары и разрушения. Москве предстоит пройти все в обратном порядке: после княжеских и великодержавных эволюций, после унижений петровской и коммунальной революций прийти к необходимости инволюции, свертывания, сжимания в некий урбанистический пучок энергии, безразличный и безучастный ко всем поползновениям пампы, откуда бы они ни шли, с Запада или Востока, Севера или Юга. Пластическому, или, употребляя гадамеровский термин, статуарному искусству предстоит в этом деле сыграть свою роль. При этом вспомнив о своей онтологической ответственности.
Отныне судьба Москвы не может быть безразлична искусству, называющему себя московским. Симптоматично, что один из последних текстов московской номы озаглавлен «Битва за Москву». Можно надеяться, что теперь в художественной практике акцент будет делаться в основном не на эстетическом экспорте диковинных специалитетов, имеющих происхождение в каком-то элитном административном округе воображаемой арт-империи (этакого Египта искусств), а на артистическом обустройстве, эстетической урбанизации того самого места, от которого происходит самоназвание такого рода практики. Это означало бы и важные перемены в этой практике, и большую переоценку эстетических категорий. Переоценку, состоящую в ревальвации традиционных, эстетических по преимуществу категорий, таких, в первую очередь, как красота, художественное качество, артистизм и одновременно сокращение темпов чрезвычайно набравшего в последнее время обороты процесса эстетизации путем социальной рефлексии до- и внеэстетических величин типа социум, идеология, язык, сознание и т. п. Поглощение эстетикой всего, что ей чуждо или враждебно, выражает городскую по происхождению волю к красоте. Но Городу нужна красота в чистом виде. Всякого рода и в том числе в формах искусства. Следует заметить, что об этом писал Гадамер: «Даже ставшее автономным эстетическое сознание не может отрицать, что искусство – это нечто большее, нежели само это сознание способно воспринять» (Истина и метод. М., 1988, с. 199). Именно это «нечто большее» и необходимо. Необходимы искусство, красота и даже декоративность, декорум, «древнее понимание» которого, как предлагает все тот же Гадамер, «полезно восстановить» (там же, с. 209), освободив от ассоциаций с чем-то ремесленным, признав его художественную и онтологическую сущность. Это особенно верно для искусства города, где декорум является духовным завершением материальной урбанизации, возведения стен, наполнения архитектурой городского пространства. Исходя из нужд города, именно умение декорировать, суггестировать красоту получает статус искусства. В свою очередь, результаты эстетической рефлексии языковых систем, к которым сейчас принято сводить все внеэстетические реалии, сами по себе еще не становятся искусством, а приобретают значение особого ментального материала, который может быть произвольно использован или не использован вовсе. Это, конечно, не означает отказа от такого рода исследований вообще, что было бы равносильно отказу от поиска и использования художественных материалов. Но как материаловедение, его особенно утонченная форма, автономная эстетика по отношению к собственно искусству выступает как прикладная дисциплина и более тесно связана с ремеслом художника, чем непосредственно с художественным результатом.


Впрочем, нет ничего странного в том, что на протяжении уже многих десятилетий между эстетической рефлексией и искусством, начиная с авангарда, ставится знак равенства. Ничем иным искусство и не могло быть на той стадии борьбы города и пампы, когда город еще не осознал своего априорного превосходства, не пришел к самосознанию себя как центра и источника бытия универсума, когда, находясь в мнимых сетях имперских, этнических, социальных, физикалистских идеологий, он усиленно ищет освобождение от этих пут, признавая при этом действительное наличие сил у всяких идеологий, у логики, вообще у языка. Это, конечно, борьба на износ, без исхода, ибо она основана на вере в реальность ложного и исходно лживого, и всякая победа в борьбе с призраком завершается еще большей уверенностью в его существовании.
Эта борьба завершается не благодаря чьему-то перевесу сил, а в связи с каким-то посторонним событием, каким-то астероидом или катастрофой, в результате чего прежний величественный антагонизм предстает в виде какого-то странного копошения, в котором противоборствующие стороны неразличимы. Внезапно стало ясно, что империи зла больше нет, и тут же ее превращение в часть мировой империи добра (Бодрийар) было отмечено серией иррациональных катастроф. Не только природных и технологических, но и социальных, этнических, которые, однако, не поддаются никакому идеологическому объяснению. Если раньше считалось, что «Жизни противоположна не Смерть, а Язык» (Р. Барт, М., 1989, с. 454), то теперь Жизни противоположна только Смерть и ничего больше. Язык, дискурс, который считали источником всех бед, остался просто не у дел. Овладение языком, деконструкция языковых систем, оберегания языков потеряли всякий смысл, кроме педагогического. Отныне его просто надо уметь использовать в конкретном высказывании, а всякая языковая рефлексия означает апологию пампы и ее архаической магии языка. Империи зла не стало, и стало ясно, что нет никаких империй. Стало ясно, что вокруг только многоокая и гудящая пампа. Именно сейчас наступил момент, который надо использовать, не надо бороться за свободу, надо защищаться, надо обустраиваться, надо возводить и украшать стены, здесь и сейчас, в Москве; все равно, что происходит где-то, это их дело, если надо, позовут, не надо суетиться, но и мешкать нельзя, нельзя ждать, пока пампа породит новых призраков, еще более правдоподобных, чем прежде. Пусть Москва думает только о себе, пусть она забудет о том, что ей приписывались качества третьего Рима, столицы всемирных Олимпийских игр и что угодно еще. Ей не нужны такие и другие подарки пампы с ее провинциально-имперским подхалимством. Москва сама по себе больше, чем все это. Она – целая Вселенная, центр и источник бытия универсума, она теперь единственный urbs, а не caput, не oppidum и не municipium, каких много. Пусть кто угодно следует ее примеру, если хочет и может. Москва ничего не имеет против, но это ее мало касается. Она вся отдается легкомысленной радости ее первой встречи с художником. Город не боится пампы, будь что будет, все города постигла одна и та же участь. По существу, речь идет о старости: пампа – это постаревший, деградировавший город. Как старость похищает всех прежде молодых, так пампа похищает горожан. Напротив, город – это молодость, и его возникновение – в сильных руках вырвавшихся из объятий пампы молодых номадов, в известном смысле, предателей родины. Вспомним, что именно предательский восторг Дроктулфта преисполнил Равенну молодым очарованием города, а достойно ли оно было на самом деле так называться, это провинциальное подражание Риму? Хотя и резиденция императоров, но до чего же постаревшей империи!

Только юный восторг художника да неуемная воля к красоте как компенсация за неизбывное чувство вины от какого-то скрытого предательства, поправшего законы племени, только в этом надежда Москвы на то, чтобы возникнуть заново. Это должна быть просто дух захватывающая страсть, готовая к самопожертвованию. Художник должен быть чем-то большим, чем он есть. Он действительно должен стать любителем красоты. Именно такой категории людей было отведено первое место в платоновской стратификации душ, они же одновременно философы, а также люди, преданные музам и влюбленности. Собственно же художники располагаются где-то между шестым и седьмым уровнями девятиступенчатой шкалы кандидатов на спасение, приводимой в платоновском «Федре».
Много говорилось о спасительных свойствах красоты мирового масштаба. Но мало обращали внимание на то, что красота и мир, космос – ornamentum, mundus – разукрашенный – синонимы, и, говоря об их взаимном спасении, впадают в тавтологию. Платон указывает на преданность красоте и влюбленность как высшую гарантию на спасение. Значит, речь идет не о безымянной красоте, а о красоте какого-нибудь Федра или Алкивиада, а в неоплатоническом варианте – о Лауре и Беатриче. Но за этими образами платонической любви стоит пластическая калогатия или одухотворенная телесность эллинского или ренессансного города. Искусство – это разновидность платонической любви, воплощающейся в декоруме города, в данном случае Москвы. Сама же Москва еще пока только возможность самой себя, лишь только участник того мистического соития, в ходе которого должно состояться обоюдное семяизвержение, благодаря усердию и ловкости (артистизму) художника, задача которого не прельститься перспективой преждевременной эякуляции. Спастись можно, только спасая. Все помнят миф об Орфее. В чем заключалась его ошибка? Все было в его руках. Надо было набраться терпения, и, полагаясь на ловкость пальцев и благозвучие струн и голоса, вывести из ада свою возлюбленную. Ему не хватило не только терпения, но также чуткости, доверчивости и веры в самого себя – он оглянулся. И вот мы снова на самой глубине какого-то подземелья, наедине с кем-то, кого совершенно не разглядеть из-за кромешной тьмы. Необходимо подняться и сублимированными формами седукции увлечь за собой прочь от мрака небытия к свету жизни. Путь предстоит пройти, возможно, еще более длинный, чем Орфею.