Тино Сегал: «Я практически не даю интервью»
В Новой Третьяковке и в Музее архитектуры им. А.В. Щусева последние дни работает проект «V-A-C Live: Тино Сегал» — первая масштабная демонстрация произведений художника Тино Сегала в России. Во время своего короткого визита в Москву Сегал встретился с искусствоведом и исследователем современного танца Катей Ганюшиной. Первым делом он сообщил, что не любит давать интервью, тем не менее Кате удалось побеседовать с ним о взаимодействии, исчезающем искусстве, демократии и о том, что делают с искусством Сегала частные коллекционеры.
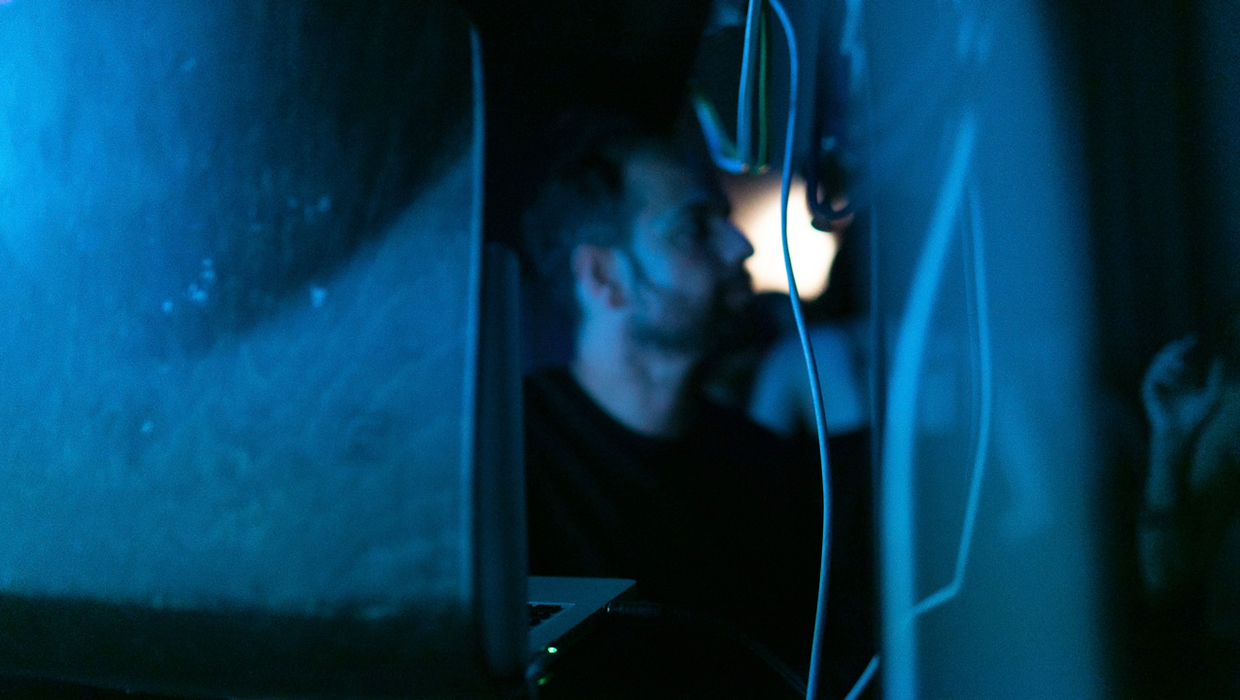 Тино Сегал. Фото: Иван Ерофеев. Courtesy V-A-C
Тино Сегал. Фото: Иван Ерофеев. Courtesy V-A-C
Тино Сегал: Итак, что мы делаем?
Катя Ганюшина: Меня попросили сделать с вами интервью.
Т.С.: Я практически не даю интервью и могу объяснить почему. За последние 15 лет вышло гораздо больше статей обо мне и интервью со мной, чем текстов о моих работах. Но мне интереснее узнать ваше мнение или мнение другого критика по поводу именно моих работ. Люди верят, что намерения художника — это и есть его произведение, его истина. Но намерения художника — всего лишь катализатор событий. Если бы я хотел что-то сказать, то написал бы текст, а не создал произведение искусства. Вы можете задавать мне вопросы о моих работах, но мне было бы интереснее услышать, что вы сами о них думаете.
К.Г.: Тогда мой первый вопрос как человека занимающегося современным танцем на стыке с современным искусством: как вы смогли убедить визуальное искусство принять ваши «танцевальные» работы?
Т.С.: Это не про «убедить». Я сделал работы, которые вы можете увидеть на протяжении всех часов работы музея. И это имеет определенные финансовые и композиционные последствия. Я бы никогда не смог создать работу длиной 2 часа 40 минут, как, например, Уильям Форсайт. И вначале это были совсем не виртуозные движения. Их мог исполнить практически любой, и лишь за редким исключением они требовали дополнительной подготовки.
К.Г.: Но можно и сценические работы преобразовывать для показа в музее. Например, Анна Тереза де Кеерсмакер создала работу Work / Travail / Arbeid, которая, по сути, есть переложение ее танцевальной сценической работы для исполнения в музее на протяжении всех часов его работы в течение нескольких дней.
Т.С.: Это было позже, чем мои работы. Это один из недавних примеров, но так делают часто. Мои работы больше в традиции Дэна Грэма и Брюса Наумана или в традиции минималистского искусства. На Брюса Наумана, кстати, оказали сильное влияние хореографы-минималисты и Мерс Каннингем. И он в своих видеоработах стал, по сути, делать то же самое, что и они. Но для меня делать это в видеоформате означало устранение самого главного в танце: мы делаем что-то, и оно исчезает. Оно не то чтобы исчезает, но, как я это называю, дематериализует себя. Я могу сделать движение, это есть что-то, это не ничто, я могу его повторить, но оно не материализуется, оно не сохраняет свою материальность. Для меня это очень интересный метод существования в экономическом смысле, с точки зрения понятия устойчивости. Превращение этого в видео означало бы обратное встраивание в модальность технологически-индустриального общества. Моя первая работа Instead of Allowing Some Thing to Rise Up to Your Face Dancing Bruce and Dan and Other Things как раз про это. Сделать то же самое, что сделали Брюс Науман и Дэн Грэм, но сделать это снова танцем.
К.Г.: Ваша самая первая работа называлась Untitled и была создана в 2000 году. Или она называлась Twenty Minutes for the Twentieth Century?
Т.С.: Да, это немного запутывает. Она анонсируется как Untitled, а потом, когда танцовщик выходит на сцену из темноты, он произносит: «Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Название этой работы Twenty Minutes for the Twentieth Century». То есть само название существует уже только устно. Настоящее название может быть любым. Например, Museum of Modern Art Department.
К.Г.: После этой работы в том же году появляется Instead of Allowing и в 2002 году Kiss. И все они содержат очень много отсылок к истории визуального искусства. Это потому, что вам нужно было войти в это поле визуального искусства и доказать, что вы ему принадлежите?
Т.С.: Да, и даже то, что моя работа принадлежит этому месту. А также чтобы начать разговор с визуальным искусством.
К.Г.: В 2002 году вы сделали первую «сконструированную ситуацию», она называлась This is Exchange. Это очень остроумная работа про то, что никто не может вырваться из системы. Теоретик танца Андре Лепекки говорит о том, что хореография по сути есть репрезентация теологической сцены — люди по свой собственной воле подчиняются командам отсутствующего мастера. И изначально вы работали именно в такой парадигме, создавая схореографированные работы. Как вы сами для себя объясняете уход от этого? Ведь работы, вовлекающие зрителя во взаимодействие, впоследствии стали доминировать в том, что вы создаете?
Т.С.: На самом деле от взаимодействия никуда не уйти. Если я сейчас замолчу и буду двигаться, мы все еще будем взаимодействовать. Это участие, но не такое выраженное. Наблюдать что-то — это хорошая модальность взаимодействия.
К.Г.: Но, насколько я понимаю, вы противник такого взаимодействия, как, например, в театре, где каждый зритель занимает определенное место для наблюдения за действом?
Т.С.: Да, театр — это более старый формат. Я часто про это говорю. Это формат характерный для более маленьких обществ, например, для Древних Афин. Людям необходимо собираться, и город может собраться в таком месте, как афинский театр. Но когда сегодня мы имеем дело с целыми нациями, тогда появляется музей как мы его сегодня понимаем. Нация — это 10, 20, 30 миллионов людей, и их невозможно одновременно собрать на стадионе. Что вы делаете — вы создаете место, как, например, Лувр, место в городе, куда можно прийти в любое время. И это является определенной аппроксимацией собрания. Это более молодая форма, и она также связана с индивидуализмом. В Лувре может собраться большее количество людей, чем в Колизее, потом что Лувр открыт каждый день, но также и потому, что они могут прийти туда по отдельности. Это то, каким образом ритуал музейной выставки отражает структуру общества в национальном государстве, что является парадоксом, потому что людей сейчас больше, чем когда-либо, но мы при этом все больше мыслим себя как индивидуумы, что, возможно, связано. Может быть, из-за того, что мы не можем соединиться со всеми, мы больше замыкаемся на себе. И это же применимо к торговым центрам. Они появились в то же время, что и музеи, и с точки зрения архитектуры они похожи. Мы можем прийти туда в любой момент, это такие индивидуальные flânerie (от французского flâner — неспешно прогуливаться. — Артгид). Этой идеи не существовало в более традиционных коллективных обществах, там люди по-настоящему собирались.
К.Г.: А вы можете представить свою работу экспонируемой в торговом центре?
Т.С.: Да, но это не место для искусства. Люди приходят туда не для того, чтобы увидеть искусство. Люди хотят получить опыт переживания искусства, и я им этот опыт предоставляю в часы работы музея. Это коммуникация, которая работает. Если бы я делал это в торговом центре, это была бы скорее интервенция. Я могу представить продажу нематериального искусства, но экспонирование его в торговом центре — это уже совсем другая идея.
К.Г.: К вопросу о важности музейного контекста для ваших работ: работа Those Thoughts была продана частным коллекционерам, как в этом случае решается вопрос условий показа этой работы? Она может быть показана где угодно?
Т.С.: Да, во время ужина. У них должен быть ужин, и у них должны быть гости, иначе контекст не работает. Само произведение — это мысли пришедших, мысли гостей. Когда эти коллекционеры покидают ужин и отсутствуют пять минут, гости начинают думать, почему, в чем проблема, и в этот момент все предрассудки относительно друг друга в людях усиливаются.
К.Г.: Это очень кинематографичная работа, как вы к ней пришли?
Т.С.: Одна коллекционер из Кельна хотела приобрести мою работу, и в итоге не приобрела, сказав, что ее муж не хочет ничего делать специально в сконструированной ситуации. Поэтому я подумал: в том, чтобы покинуть ужин, нет ничего специального, и при этом это произведение.
К.Г.: Я знаю, что у вас был интересный опыт столкновения с политическими процессами в подростковом возрасте, когда вас попросили выступить на слушании по транспортной инициативе в Штутгарте. И вы это вспоминали так: «Я помню, как министр транспорта уходил от вопросов и изворачивался. Все, что он мог делать, — это выступать администратором общественного мнения, иначе он бы не был переизбран на следующих выборах. Если выборная политика не может произвести перемены, зачем вообще с этим иметь дело? Больше я парламентской политикой не интересовался, мне стала интересна культура». Для России это актуальный вопрос. Если участие в политических процессах не может дать мне того, чего я хочу, как культура может это сделать? Как культура может производить?
Т.С.: Это достаточно простая идея в рамках демократии. Но в любом обществе единственное, что является политическим, — это культура, взгляды, привычки, отношение людей. И все это развивается, меняется посредством дискурсов, разговоров, тенденций. И все, что может сделать политик в демократическом обществе, — это сказать: «Хорошо», спросить, к чему идут все эти тенденции, дискурсы, преобразования, и отразить их. Ни один политик не может выйти с некоей идеологией, которую он считает наилучшей, и выложить ее на стол. Никому это не интересно, и неважно, лучшая это идеология или нет. И если у людей плохие идеи, но они хотят с ними жить, то так и будет.
К.Г.: Звучит как «если ты политик, ты просто должен поддерживать процесс, ты не можешь ничего изобретать или что-то серьезно изменить».
Т.С.: Я думаю, на конкретном уровне ты можешь изобретать и менять что-то в качестве политика, но всегда на основе текущего дискурса. Я помню, как в Германии решался вопрос о легализации гей-браков. И дверь этому открыла Ангела Меркель. Она сказала, что это должен быть осознанный выбор каждого парламентария. И потом ее спросили, как голосовала лично она. Она ответила, что голосовала против. Но именно она открыла этому дверь: будучи профессионалом, она знала, что ничего не может с этим сделать — время пришло, и неважно, что она думает по этому поводу. Таким образом, дискурс — это течение гораздо более мощное. Конечно, политик может предложить какие-то идеи, но чаще всего эти идеи до этого разрабатываются академическим сообществом и культурой. Именно там генерируются генерируется идеи. Поэтому мне было интересно быть в начале цепочки, а не в конце.
К.Г.: Вы помните, когда была продана ваша первая работа? Как это произошло? Кто был покупателем?
Т.С.: Это был Жером Бель. И это была его идея. Это была работа Instead of Allowing, он увидел ее в Стокгольме, он в то время приобретал произведения искусства и сказал, что хочет купить эту работу. Я тогда не думал об этом, но потом решил: это имеет смысл — продать работу. Я сделал все в соответствии с конвенциями, просто не заглядывал так далеко.
К.Г.: По поводу конвенций: вы запрещаете любую документацию ваших работ. А вы бы хотели, чтобы ваши работы увидели через какое-то продолжительное время или когда вас уже не будет в живых? И как вообще этот вопрос решается, например, когда вы продаете работу?
Т.С.: Конечно, работа, особенно в музейной коллекции, предназначена для экспонирования вечно, поэтому моя задача — удостовериться, что есть организация, которая занимается передачей этого знания. Но это мало отношения имеет к документации. Это так же, как когда вы хотите поставить хореографию Баланчина, например, к вам приходит балерина, которая разучивает ее с вами. И в ситуации с Баланчиным интересно, что те люди, которые сейчас занимаются воссозданием его работ, никогда с ним не встречались, они встречались только с людьми, которые работали с Баланчиным.
К.Г.: То есть ваша задача — гарантировать передачу знания?
Т.С.: Нет ничего, что можно гарантировать. Это как и с картинами. Если у вас есть картина Сера и кто-то решает ее разворотить, вы ничего не можете сделать. Этот человек, конечно, сядет в тюрьму, но вы сделать ничего не сможете. В моем случае, если кто-то решает ударить человека, исполняющего мою работу, он не причинит вреда работе, он причинит вред этому человеку. Потому что мое произведение — это знание. Но если о нем забывают, если никому эта работа не интересна, скажем лет через пятьдесят, то тогда это проблема. Так что риски есть, риски есть всегда. Но это верно для любого объекта в музее.
К.Г.: Но мне кажется, что ваши работы гораздо более хрупкие, чем любое другое произведение искусства.
Т.С.: Они более крепкие, потому что им нельзя нанести физический ущерб. Любую картину можно уничтожить, мою работу — нет. Любая картина может быть забыта. Пока она находится в запасниках, никому не интересен этот художник.
К.Г.: Да, но теперь у нас есть, например, Google, который сделал скан многих картин в очень высоком разрешении. И теперь любой, у кого есть интернет, а это еще более широкая аудитория и демократичное пространство, чем музей, может открыть соответствующую страницу и увидеть эти работы.
Т.С.: Но и в интернете они могут быть забыты, если никто эту страницу не открывает. Если никто не открывает страницу с картиной какого-то русского художника, например, это не наносит вреда самой картине. Двадцать лет спустя, если кто-то открывает эту страницу, при условии, что она еще существует, никаких проблем для картины. Для моего произведения это проблема. Картины и скульптуры не могут быть по-настоящему забыты, или даже если они забыты, это не влияет на них. В случае с моими работами — если о них забывают, это наносит им вред.
К.Г.: Возвращаясь к документации. Понятно, что это запрещено, но люди так или иначе это делают, и есть ли смысл тогда в таком запрете? К тому же когда смотрители пытаются запретить документировать, это становится побочным перформансом.
Т.С.: Поэтому я и не контролирую это жестко. Совсем другое дело, если организаторы делают это. Официальная документация не делается, потому что иначе будет путаница. У этого медиа — танца —есть особенность в смысле того, как оно производится. Моя проблема с фото и видео, особенно потому, что мы оперируем в поле визуального искусства, — это их двухмерность. Картины двухмерны. Я не хочу работать с этим материалом, потому что в итоге люди будут путаться в том, что на самом деле является произведением искусства. Если будут фотографии, публика будет считать произведением искусства именно их, а не танец в музее. Это та путаница, которую я, например, не представляю, когда смотрю на раннее концептуально искусство или искусство перформанса. Я не придумываю эту путаницу. Если я, например, смотрю на работы раннего концептуального искусства или искусства перформанса, я не вижу, как простреливают руку Криса Бердена, я вижу только фотографию простреленной руки. Таким образом она становится произведением искусства, и, по моему мнению, это и есть произведение. Меня же интересует реальность.




