Юрий Балега: «Мне было любопытно, как художники представляют себе красоту, устройство и философию мира»
Астроном, член-корреспондент Российской академии наук о выставке «Обсерватория» в Нижнем Архызе, фундаментальных основах искусства и Центре Помпиду.
 Юрий Балега. Фото: Анастасия Лебедева
Юрий Балега. Фото: Анастасия Лебедева
Поселок Нижний Архыз (он же Буково) в республике Карачаево-Черкесия известен всему научному миру. Здесь, на горе Пастухова, куда можно взобраться по десятикилометровому серпантину, находится самая крупная в России астрономическая обсерватория, оборудованная шестиметровым оптическим рефлектором БТА и кольцевым радиотелескопом РАТАН-600. Внизу, на склонах расположился академгородок — порожденная советской наукой 1960-х утопия, где даже собаки изучают нотную грамоту и говорят минимум на двух иностранных языках. В середине октября на территории академгородка, а также в здании обсерватории открылся site-specific проект «Обсерватория» (кураторы Симон Мраз, Мадина Гогова, Мариана Губер-Гогова и Андреас Кристоф, проект организован Австрийским культурным форумом в Москве, Министерством культуры Карачаево-Черкесии, Gogova Foundation и Section A в Вене), в котором приняли участие российские и австрийские художники. Инсталляция Александры Паперно расположилась в интерьере полуразрушенного Среднего Зеленчукского храма недалеко от поселка, на территории средневекового Архызско-Аланского городища (VII–XIV в. н. э.). Ирина Корина расставила по всей территории академгородка крошечные, похожие на готические дарохранительницы модели храмов-обсерваторий, которым могли бы поклоняться современные ученые. Фотограф Юрий Пальмин попытался запечатлеть исчезающую красоту этого места. Анна Титова превратила макетную мастерскую в святилище Эола, от которого зависит, застелет ли гору туман, затянут ли обсерваторию тучи и смогут ли ученые работать на своем знаменитом телескопе. Тимофей Радя то ли звездам, то ли изучающим им астрономам посвятил парящую в небе (а на самом деле подвешенную на тросе подъемного крана) неоновую надпись «Они ярче нас», а австрийская художница Эва Энгельберт, вдохновившись работами советского архитектора и разработчика интерьеров советских космических кораблей Галины Балашовой, попыталась деконструировать язык советского дизайна. Но в Нижнем Архызе «Артгид» интересовало не только искусство, но и то, как видят его зрители этого проекта — живущие и работающие в Буково физики и астрономы. Нам повезло встретить и разговорить астронома, доктора физико-математических наук, научного руководителя Специальной астрофизической обсерватории РАН Юрия Балегу, который рассказал шеф-редактору «Артгида» Марии Кравцовой о фундаментальном и экспериментальном искусстве, о своем первом посещении Центра Помпиду в Париже и о том, почему среди советских физиков не было коллекционеров.
Мария Кравцова: Когда я узнала, что на территории научного городка в Буково готовится выставка современного искусства, то сразу же вспомнила советские НИИ, где нередко устраивали выставки и вообще шла очень насыщенная культурная жизнь.
Юрий Балега: Современных художников мы принимаем у себя впервые, но в советскую эпоху у нас была активная культурная жизнь. Мы ставили собственные спектакли, с «большой земли» приезжали артисты: Сергей Юрский участвовал во многих наших постановках, у нас часто выступал бард Тимур Шаов. Наши ученые, особенно молодые, любят заниматься спортом: например, лыжами или скоростным спуском с горы на велосипедах.
М.К.: А как артистическое и научное сообщества взаимодействовали в советское время? Очевидно, что эта связь была значительно крепче, чем сейчас. Первое, что я увидела в здании обсерватории, — огромный витраж с изображениями знаков зодиака. Собственно, так было везде: художники-монументалисты оформляли здания научных институтов, нонконформисты выставлялись в закрытых НИИ, сами ученые, например, сотрудники казанского СКБ «Прометей», занимались эстетическими поисками, экспериментируя со звуком и светом. Сейчас такое сложно представить.
Ю.Б.: Даже невозможно! Схема была простая. В академической среде многие были знакомы с представителями артистических или художественных кругов. Ученые приглашали артистов или художников, обещая, что обеспечат их всем необходимым. Рамы для картин, например, делались в мастерских научных институтов. Но аудитория научных институтов или научных городков вроде нашего была невелика, и большого интереса у художников к таким местам не было.

М.К.: Мне интересно, почему именно НИИ начали принимать в своих стенах не просто художников, а нонконформистов, то есть тех, кто в своих творческих экспериментах уходил от официальнлй эстетической и идеологической доктрины. Мне хочется понять, что в то время сближало ученых и художников-экспериментаторов.
Ю.Б.: Как и в науке, в искусстве есть фундаментальная основа, а есть поисковые направления. Для тех, кто работает в этих направлениях, есть риск ничего не получить, риск того, что их усилия ни к чему не приведут. Но иногда получается так, что эксперимент в искусстве удачен, он пролагает новую дорогу и его результаты остаются в истории навсегда.
М.К.: То, что мы считаем фундаментальными основами искусства, когда-то было создано именно усилиями экспериментаторов. У Караваджо заказчики не принимали работы, которые казались очень радикальными для того времени, Микеланджело ругался с Папой и так далее.
Ю.Б.: Конечно, но мы не знаем, какое количество экспериментаторов кануло в небытие. До нас дошли имена и работы тех, кто смог еще и продолжить себя в последователях. История искусства состоит из имен наиболее выдающихся художников, гениев. Мой отчим прожил 97 лет, он всю жизнь пил водку и говорил: «Юрочка, вот видишь, я дожил до такого возраста, потому что всю жизнь пил!» На что я ему отвечал: «Спиридон Нилыч, а сколько же от этого умерло? Десятки миллионов!» Так и в искусстве. Многие вошли в историю благодаря таланту, стечению обстоятельств и поддержке — вот три фактора успеха. Десять процентов художников пробились и стали известными, а девяносто ушли в никуда.

М.К.: Мне интересно с вами общаться, потому что у нас наконец появился шанс посмотреть на то, что мы делаем, глазами зрителя знающего, эрудированного, много видевшего, но при этом не профессионального: я уже успела узнать о вашем большом культурном бэкграунде и о том, что вы сами занимаетесь живописью.
Ю.Б.: Я окончил Ужгородский государственный университет, на самом западе Советского Союза. Но перед тем как поступить на физический факультет, пытался поступить в Киевский художественный институт. Собрал работы — тогда на конкурс надо было представить не менее двадцати — и отправился их показывать приемной комиссии. Но увидев работы других поступающих, собрал все свои вещи и уехал домой. Я понял, что эти люди настолько талантливы, что не могу с ними тягаться, во всяком случае в живописи. Да, в детстве и юности я ходил в художественную школу, руководитель разрешал нам, мальчишкам, стоять за спиной одного из старших учеников, уже практически сложившегося художника, и не только смотреть, как он все делает, но и даже брать у него с палитры краски. Но ничего не получалось! С тех пор я знаю, что есть талант от бога, и никакими тренировками не добиться того, чего легко добивается талантливый человек. Поэтому тогда я спокойно ушел с экзаменов в художественном институте и решил учиться на физика.

М.К.: Культура в СССР характеризовалась некоторой разреженностью. Каждая выставка, новая книга становились событием, их обсуждали, спорили, они становились фундаментом для личностного развития. Вы не могли бы вспомнить о культурных событиях, которые потрясли вас в советское время?
Ю.Б.: Да, так как в ту эпоху, а сейчас мы говорим о 1970-х, события были штучными и редкими, то почти все, что происходило, воспринималось с диким восторгом, а порою даже с экзальтацией. Возможно, то, что тогда восхищало людей, в наше время прошло бы просто незамеченным. Уже в конце 1970-х — начале 1980-х, то есть в конце брежневской эпохи, появилось ощущение затухания и того, что жизнь идет на спад. И каких-то выдающихся мероприятий, которые потрясли бы меня, я не припомню. К тому же я тогда был лаборантом, у меня появилась семья, а на зарплату лаборанта особенно не погуляешь. Бо́льшую часть своего времени я сидел здесь, на башне (обсерватории в Нижнем Архызе. — Артгид), которая только открылась, и быт был, прямо скажем, не налажен. Это была довольно тяжелая жизнь — тут уж не до культуры. К тому же я быстро понял, что университетских знаний для работы не хватает, приходилось переучиваться, читать фундаментальную литературу. И переломом для меня стала поездка во Францию в 1980 году, когда я впервые попал в Центр Помпиду…

М.К: Центр Помпиду только что открылся, как вы вообще про него узнали?! Для советского командировочного логичнее было бы пойти в Лувр.
Ю.Б.: Да, он только что открылся, и увиденное — начиная с его дурацкой архитектуры с этими трубами и заканчивая представленными в экспозиции работами — стало для меня настоящим культурным шоком. Я туда ходил несколько раз. Как я узнал о Центре Помпиду? У меня к тому времени уже появились французские друзья, очень модерновые люди — Даниэль Боно, Алан Блази и другие. Они выглядели как хиппи, но при этом были крупнейшими учеными своего времени, физиками-оптиками, и именно они протащили меня по всем злачным местам Парижа.

М.К: Злачным? Центр Помпиду тоже значился среди «злачных» мест?
Ю.Б.: Да, он казался злачным местом для человека вроде меня, который считал себя великим специалистом в области культуры. Я был потрясен. До посещения Центра Помпиду я с большим скептицизмом относился к современному искусству просто потому, что был воспитан в тех эстетических традициях, которые доминировали в нашей стране. Но в Париже я увидел работы современных художников и понял, что и тут есть о чем подумать и есть о чем говорить. Я быстро пробежал эти дурацкие, я извиняюсь, залы с Малевичем, белые квадраты, черные квадраты… но провел много времени в залах послевоенного искусства, особенно меня поразили английские модернисты второй половины XX века. Потом, уже в Лондоне, меня точно так же поразил поздний Тернер, хотя тут я не отличаюсь от всех остальных людей, он на всех производит сильное впечатление. Еще я очень люблю импрессионистов, работы Писсарро и Сезанна — это нечто фантастическое для меня. Все у них вроде бы просто, но повторить сейчас невозможно.

М.К.: Вы знаете о таком направлении в современном искусстве, как сайнс-арт? Как вы к нему относитесь?
Ю.Б.: Хорошо отношусь, особенно когда художники, рассматривая ту или иную проблему, пытаются приблизиться к научной точке зрения. Всегда любопытно посмотреть, как люди со стороны представляют себе то или иное явление в науке.
М.К.: При этом мы знаем, что на сложение модернизма в искусстве в том числе повлияли и научные открытия XIX — начала XX века, от изобретения фотографии до открытий в оптике. Тогда наука и искусство были значительно ближе друг к другу, чем сейчас. Но в XX веке язык науки усложнился и стал малодоступен для обывателей, к которым в этом смысле относятся и художники. Для людей, не принадлежащих к ученому миру, современная наука — своего рода магия, что-то непонятное…
Ю.Б.: Я понимаю, о чем вы говорите. В начале XX века произошла величайшая революция в науке, особенно в физике. И искусство тоже в это время переживало расцвет. Но насколько это было взаимосвязано, как революция в искусстве связана с прорывами в науке, я, честно говоря, не думал.

М.К.: Известно, что на сложение пуантилизма сильно повлияли работы химика Эжена Шеврёля и физика Огдена Руда.
Ю.Б.: Ну да. Белый цвет состоит из разных составляющих, и если поставить три красных точки и одну, например, зеленую, то получится… Но это слишком примитивный подход, и наука намного сложнее. Сейчас наука стала в хорошем смысле настолько формализована, что у нее появился свой и при этом очень развитый язык. Даже физики, которые делятся на десятки и сотни направлений, друг друга зачастую не понимают именно потому, что у каждого из направлений — собственные языки. Но есть астрономия — наука, если ее не усложнять всякими ненужными деталями, доступная любому человеку. Она романтичная, она волнует, она дает возможность для полета воображения. К тому же достоинство науки заключается в том, что тем, кто ей предан, она дает возможность общаться с большим количеством умных и талантливых людей. То же самое и в искусстве, хотя с людьми искусства общаться сложнее, они экстравагантные, капризные, зачастую слишком сильно выбиваются из нормы…

М.К.: Мы начали с того, что в советское время научная среда интересовалась искусством, но сейчас я не вижу этого взаимного когда-то притяжения.
Ю.Б.: Раньше физика окружал ореол романтизма. Те, кто занимался теоретический физикой, были элитой, особенной кастой. И эта тонкая прослойка общества, которая считала себя элитой, тянулась к другим элитам, прежде всего к элите художественной. В Советском Союзе было такое взаимопритяжение элит. А сейчас работа в науке — это рутина, весьма похожая, например, на рутину бухгалтера или экономиста, которые работают с большим количеством данных. Ушла романтика. Сейчас наука стала более прагматичной, сконцентрированной на определенных задачах и сухой, потеряла тот ореол красоты, который так притягивал когда-то девушек.
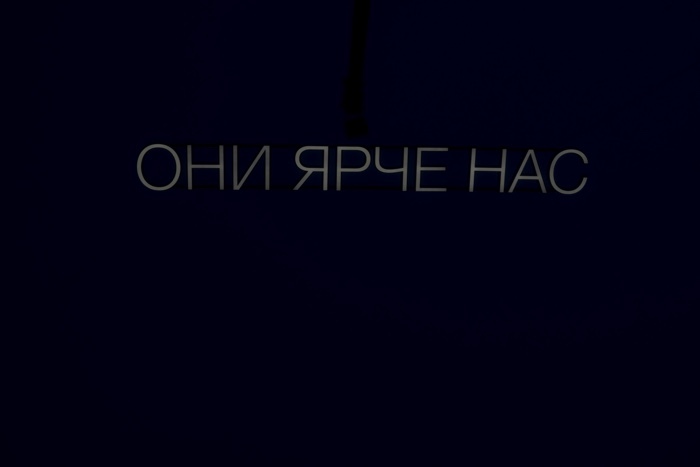
М.К.: Среди советских физиков были коллекционеры?
Ю.Б.: Нет, их не было. Все-таки коллекционирование искусства — для тех, у кого много свободного времени и свободных денег. А физик такого себе позволить не мог, к тому же это считалось неприличным.
М.К.: Неприличным?!
Ю.Б.: Нобелевский лауреат Виталий Лазаревич Гинзбург отличался категоричностью взглядов. Он, например, говорил, что любой ученый, который говорит о Боге, должен быть изгнан из Академии наук. А почему? В конце концов, пусть себе ученый верит, это же никому не мешает… Но нет, считал Гинзбург, если ученый верит в Бога, это говорит о том, что у него нет научного мировоззрения, а значит, и физикой он заниматься не может, и его надо гнать! Также Виталий Лазаревич утверждал, что любой человек, который теряет на всякую ерунду более 20% своего времени, тоже не может быть физиком, и его надо гнать из академии! Почему я так подробно об этом рассказываю? А потому что Гинзбург был героем великой эпохи, мы все не только учились у него и таких как он, но и старались во всем подражать этим людям и ученым. Гинзбург был культовой фигурой. Мы верили, что есть только наука, собственная область деятельности, где стать авторитетом и чего-то добиться можно, только если правильно жить и правильно работать. Доходило до того, что люди даже пытались скрывать свои увлечения, просто потому, что любое хобби, любое увлечение среди физиков считалось неприличным. Многие известные физики занимались альпинизмом. Например, в горах много времени проводил знаменитый физик Рем Хохлов, но другие физики считали это поведение слишком вольготным и неподобающим. Чтобы чего-то добиться, говорили они, надо работать по 20 часов в сутки, а не проводить недели и месяцы в горах! Собственно, поэтому серьезное увлечение искусством, как и вообще чем-либо, в нашей среде сообществом не одобрялось.

М.К.: Я бы хотела посмотреть на выставку «Обсерватория» вашими глазами. Что вам понравилось?
Ю.Б.: Мне было любопытно увидеть, как современные и зачастую очень молодые художники представляют себе красоту, устройство и философию мира. Например, у Ани Титовой, которая представила свою инсталляцию в макетной мастерской, хорошая попытка визуализировать идею, сделать своего рода метафору звездой пыли, которая была рассыпана по помещению и которую гости унесли на своей обуви. Мне понравились фотографии Юрия Пальмина, который снимал в нашем научном городке. Кажется, что у него все просто, он снимает банальные вещи, но все это в помещении заброшенного магазина выглядело очень здорово. И, в-третьих, мне понравилась инсталляция Александры Паперно в храме. Ведь что такое созвездие — это условность, проекция на небо. Работа Саши, эта упорядоченность созвездий красиво контрастировала с руинами храма, цветом камня…
М.К.: А также визуализировала идею, что храм — это небо на земле. Я не знаю, в курсе ли вы, но Александра Паперно — художник, который чаще, чем другие ее коллеги, смотрит на небо. Она постоянно его изображает. Дневное, ночное звездное, пасмурное, в котором парят птицы…
Ю.Б.: Ну так пусть она чаще приезжает к нам!




