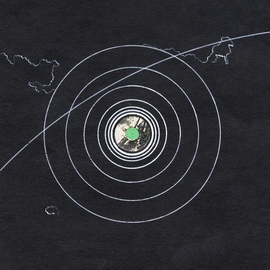02.07.2013 40902
Илья Архипенко и Константин Бударин: «Мужики появляются, когда им есть что делать»
Илья Архипенко и Константин Бударин — архитектурные критики, авторы цикла лекций-кинопоказов об архитектуре в кино. Анна Матвеева поговорила с ними о сталинской и современной архитектуре, монументальной пропаганде и тех образах героя, которые она могла бы пропагандировать, но у нее это не получается.
 Колонна спортсменов во время Всесоюзного парада физкультурников на Красной площади 12 июля 1937 года. Москва. Фото предоставлено Ильей Архипенко
Колонна спортсменов во время Всесоюзного парада физкультурников на Красной площади 12 июля 1937 года. Москва. Фото предоставлено Ильей Архипенко
Анна Матвеева: Мне хотелось бы поговорить о судьбе монументального искусства в сегодняшней России. Монументальная пропаганда — это всегда образ героя. Что у нас с ним происходит?
Константин Бударин: С общепринятыми местами, предназначенными для репрезентации героя, — например, с образом героя-защитника, — не происходит ничего хорошего. Не только в монументальной пропаганде, но в первую очередь в жизни. Я недавно жрал с похмелья в «Макдоналдсе» возле Адмиралтейства и смотрел, как мальчики-матросы бегают кросс по саду: кто в чем, кто в одних рейтузах, кто в других, кто смуглый, кто бледный, кто побольше, кто поменьше, в общем, никакой красоты. Хочется, чтобы были красивые мальчики одного размера, в одинаковых штанишках, чтобы красиво бежали, не вразнобой. В военнослужащих в плохой обуви и в гопницких штанах никакого визуального образа нет, их некрасивая форма не сообщает никакой значительности.
Идя по Миллионной улице или по Дворцовой площади, я часто смотрю на военные здания, которых там много, — в них не моют окна. Военные занимают безумно ценную недвижимость и при этом не могут помыть окна.
Илья Архипенко: Это признак деградации. Николай I требовал, чтобы белые лосины были идеально чистыми, и пофиг — дождь, не дождь: лосины офицера должны быть идеальны. Даже легендарные документальные фильмы Александра Панченко о русских царях, когда разговор идет о Николае I, начинаются с рассказа о его лосинах, которые он никогда не снимал, так что у него даже были натертости от швов в некоторых местах. Белые лосины — символ муштры. Ты, офицер, должен носить нечто такое, что должно быть идеально. У нас же культура чистоты и визуальной дисциплины свелась к подворотничку. Это отвратительно. А должно быть красиво, когда маршируют колонны, заворачивают на Дворцовую, шагают мимо архитектуры.
 К.Б.: Вот я тоже за архитектуру. Мальчики сами по себе мне не интересны. А вот мальчики в форме, выходящие из архитектуры, — это же как-то то, что должно быть! Мужчины в форме. У меня дедушка — летчик, у него есть летная кожаная куртка. Она невероятно качественная, она вся сочится значительностью. Понятно, что когда дедушка надевал эту куртку, все девки просто сыпались гроздьями со своих балконов и бежали к нему. Форменная куртка маркирует мужчину, у которого выслуга лет год за два, зарплата втрое больше, чем у любого штатского, и он летает на самолете. Он крутой мужик. И я не хочу, чтобы прекрасные здания занимали неопрятные офицеры с плохой зарплатой. Я хочу, чтобы из архитектуры Миллионной улицы на площадь выходили красивые люди, красиво одетые, которые защищают родину.
К.Б.: Вот я тоже за архитектуру. Мальчики сами по себе мне не интересны. А вот мальчики в форме, выходящие из архитектуры, — это же как-то то, что должно быть! Мужчины в форме. У меня дедушка — летчик, у него есть летная кожаная куртка. Она невероятно качественная, она вся сочится значительностью. Понятно, что когда дедушка надевал эту куртку, все девки просто сыпались гроздьями со своих балконов и бежали к нему. Форменная куртка маркирует мужчину, у которого выслуга лет год за два, зарплата втрое больше, чем у любого штатского, и он летает на самолете. Он крутой мужик. И я не хочу, чтобы прекрасные здания занимали неопрятные офицеры с плохой зарплатой. Я хочу, чтобы из архитектуры Миллионной улицы на площадь выходили красивые люди, красиво одетые, которые защищают родину. 
А.М.: Теми же самыми словами мы можем говорить и о современной российской архитектуре. Она ровно такая же: у нее нет общего визуального направления, она непонятно зачем существует. И так же мы можем говорить о современной российской малой пластике, монументальной пропаганде. Уже непонятно, что она пропагандирует, скорее преследует чисто декоративные цели, которых, однако, тоже не достигает, потому что выглядит ужасно.
К.Б.: Я думаю, что архитектура все же может существовать в рамках неолиберальной экономики. В Москве достаточно богатых людей, готовых платить за красивые здания, — и они иногда действительно красивые. Но они «точечно» красивые, у них нет единого драйва, который бы их на эту красоту заводил. Как с этими мальчиками: кто-то из них от природы красив, кто-то уродлив, но общего стиля, который делал бы из них единое зрелище, нет. Не появляется красивой архитектуры — появляются отдельные домики. Эти домики — модернизм, понятый девелопментом как некое количество квадратных метров, которые могут получить исключительный фасад, художественную форму. Иногда эта форма бывает хороша. Архитектор Скуратов строит высотку, и это прикольная высотка. Архитектор Григорян строит универмаг «Цветной», и это замечательная архитектура, очень умная, с большим вкусом сделанная. Это нужно ценить, но все равно с точки зрения искусства это мещанство. Мы ценим не стиль, а просто хорошо сделанную вещь, и никакого искусства за ней не вырастает. С памятниками еще хуже: самодеятельность какая-то унылая. Причем памятников ставится довольно много, но ни один из них не изображает ничего и не привлекает никого.
А.М.: Нет, даже если памятник «не изображает ничего», то это тоже значит что-то.
К.Б.: Есть определенный бюрократический механизм по установке памятников. Он совершенно непрозрачен. Никакой идеологии в нем нет. В Петербурге в одном месте ставят «Черный куб», памятник русскому авангарду, в другом — совершенно тухлый памятник Есенину. Чтобы была визуальная связность, государство должно производить идеологию, а современные художники — ее рушить.

А.М.: Не обязательно. Возьмем памятники героям Великой Отечественной войны. Там же была куча модернизма. Одно «Разорванное кольцо» чего стоит — абсолютно модернистская вещь, при этом государством заказанная, одобренная и оплаченная. Вот меня госзаказ интересует.
И.А.: Пространство госзаказа никуда не делось. Например, строятся новые станции метро — они должны быть украшены. В Петербурге снова начинает обсуждаться реконструкция площади Восстания: предлагается снести стелу в честь юбилея Победы и вернуть изначально стоявший на этом месте памятник Александру III — «на площади — комод, на комоде — бегемот». Что это значит, зачем памятник Александру III сегодня? Сразу возникает другая коллизия — сейчас этот памятник Александру III стоит перед входом в Мраморный дворец, где расположен отдел новейших течений ГРМ. Напротив стоит скульптура AES+F с девочкой на динозавре, которую почти сразу после установки прикрыли лесами — кому-то из начальства она не понравилась. Хотя смотрелась она прекрасно, особенно в диалоге с Александром III, и сразу было понятно, что здесь музей современного искусства.

К.Б.: Единственный хороший проект на тему этого Александра III принадлежал Никите Явейну, который предлагал поставить его на Конюшенной площади, чтобы он смотрел на храм Спаса на Крови — место убийства своего отца. В этом есть некий иронический момент, в том числе и по отношению к городским программам, связанным с памятниками. Когда бюрократы хотят памятник, они хотят ставить галочки: благоустройство — это фонарь, скамеечка, урна и памятник. А Явейн, хотя и официозный архитектор, говорит: я не буду марать руки новым памятником, он будет плох, я возьму старый. Он не хочет производить новый дрянной объект, которого, судя по текущим конкурсным проектам, все ждут. Он берет хороший старый памятник и его смешно ставит. В этом его этическая позиция, в отличие от людей, которые предлагали на Конюшенную площадь проекты, один в один напоминающие заставки из «Игры престолов».
А.М.: Мне интересна ситуация идеологической разбросанности, которая приводит к тому, что нет единого стиля, зато получается куча мелкого говна разной степени художественности. И в отношении и мальчиков, и памятников, и архитектуры.
И.А.: Мальчики в «абибасе».
А.М.: Вот кстати, «абибас» — достойный выразитель текущей национальной идеи. То, что сейчас строят,— «абибас» в чистом виде.
К.Б.: Девелопер существует в рамках рынка, соответственно и строит. Почему он должен себя сдерживать, если на рынке никто себя не сдерживает?
А.М.: А почему нет? Я понимаю, снести старинный дом и построить десятиэтажное здание — это выгодно. Но строить на его верхушке уродливую декоративную ротондочку — это не ради выгоды, это уже чистой воды фанаберия.
К.Б.: Ротондочку они построили потому, что они хоть и не очень умные, но слышали, что есть какие-то дискурс, наследие и контекст.
И.А.: То есть это бессознательно происходит.
А.М.: Вот меня бессознательное и интересует. Откуда это все прет? Когда нет идеологии, начинают выпирать очень показательные рудименты.
К.Б.: Я не согласен. Здесь как раз есть идеология, что в историческом центре нужно строить что-то с колоннами. Архитекторы в меру своего таланта это изображают. Вопрос в том, почему человека с таким талантом допускают что-то строить в таких местах.
И.А.: Не путай идеологию и полубессознательные процессы.
К.Б.: Мне кажется, что эти ротондочки были попыткой ответить на некий запрос, который они чувствовали…
А.М.: Вот именно, что они чувствовали, а не сознавали.
К.Б.: Мне кажется, эти здания репрезентируют некий тупик истории. В отсутствие истории и вообще каких-либо общественных сил остаются девелоперы, которые чего-то хотят, архитекторы, которые что-то чувствуют, и некий общий фон, который что-то диктует. Появляется какой-нибудь архитектор Романов, который честно думает, что он ученик Лазаря Хидекеля, который, в свою очередь, ученик Малевича, и что он со своими эркерами, сделанными, как говорит Ревзин, «монтировкой», олицетворяет некое супрематическое формообразование. Это крайне странно: если ты делаешь эркер, ты должен думать о переплетах, а не о том, что ты ученик Хидекеля. И из этой смеси выстреливает что-то, что рождает здания и не новые, и не старые, и ни нашим, ни вашим и вообще никому: никакое время, никакая история. Объекты тупика.
И.А.: Да, это воплощение бессилия. Возможно ли такое, чтобы вдруг появился архитектор, который возьмет и всех победит, и построит гениальное здание для этой эпохи? Статусные архитекторы строят дома за высокими заборами. Здесь мы снова приходим к нехватке маскулинности. Маскулинность в виде «хочу сделать так-то, и добьюсь! Выбью ногой все двери во всех кабинетах, но сделаю!» не востребована духом времени.
А.М.: А есть ли светлый образ маскулинности в нашей монументальной пропаганде, помимо образов Великой Отечественной войны?
И.А.: Конечно. Были рабочие, были строители БАМа — просто Гераклы. Потом спортсмены, бесконечные монументальные панно, мозаики и росписи со спортсменами. Потом возникла тема космоса. Космонавты, как ни странно, часто изображались полуобнаженными, есть много парных памятников, где два космонавта обнимаются. Было даже словосочетание «космические братья». В Пскове мы видели прекрасное панно советских времен, где изображена некая ветвь эволюции советского человека, и в конце ее уже этакие Прометеи сходятся в объятиях в космическом пространстве.

К.Б.: Маскулинность была окрашена советским мрамором, и это кое-где длится до сих пор. Страннейший проект Академии наук в Москве — некая крепость с башнями, которая строилась 15 лет. Это чистое безумие, в наше время столько уже ничего не строится, и никто не делает из мрамора небоскребы. Позолоченные алюминиевые формы, люстры, которые скатываются вниз единой игрой мускулов, — это все весьма брутально и очень странно.
И.А.: В 1960-е годы возникает тема дружбы народов, сначала в плакатах, потом уже в 1970–1980-е годы создаются монументы, в 1982-м — один из самых масштабных, на берегу Днепра, посвященной дружбе украинского и российского народов. Русский и хохол, мужчины, стоят фактически в позе «Рабочего и колхозницы», и вся сцена ближе к античным тираноубийцам. Над ними поставлена гигантская металлическая арка, которая символизирует радугу…
А.М.: Илья, наше издание закроют!
И.А.: …а сейчас эта металлическая арка подсвечивается неоновыми полосочками в радужных цветах! И мужики так же стоят на месте плечом к плечу, над ними радуга, под ними течет Днепр. Эти образы ушли вместе с СССР.

А.М.: Но что пришло им на смену? Общество крайне редко и недолго живет вообще без героического образа. После распада СССР появился только один очень четкий образ — бандита. Появилась и его иконография: но это были памятники не на площадях, а на кладбищах, целые «аллеи героев», выросшие в 1990-е в том же Екатеринбурге, со своим визуальным языком.
И.А.: Да. Тем временем из официальной скульптуры героика ушла. Одной из первых уличных скульптур мужской обнаженной натуры стал «Новый век» скульптора Ротанова перед новым элитным домом на Фонтанке, изображающий мальчика, хиленького и тщедушного.
Отношение к памятникам прекрасно иллюстрирует прошлогодняя история, когда братья Зингаревич предложили вместо монумента с вечным огнем и мемориальным захоронением на Марсовом поле построить гранитный амфитеатр с фонтанчиками и прочими развлечениями. Памятники сегодня уже не связаны ни с какой идеей памяти.

А.М.: А сейчас у общества существует какой-то визуальный ориентир в отношении армии и вообще мужчины? В советские времена было понятно, откуда шел мужской образ: от воина-героя Великой Отечественной войны, от Мамаева кургана. Он шел до наглядной агитации, причем не только в образе воина: штатский молодой строитель коммунизма был частью той же героической эстетики. А сейчас в чем образ мужского подвига? Светлого образа менеджера что-то не видать.
К.Б.: Образ менеджера присутствует. Вдоль любого шоссе стоят билборды с рекламой, на них парни, у них бабы, деньги, рестораны, и это все менеджеры. У этого образа есть четкая иконография, есть цель, все это можно легко разобрать. Он, разумеется, никак не связан с войной или армией. Армия появляется вместе с идеей государства. Когда государство все ненавидят или не понимают, что это такое, то какой тут может быть образ армии? Тогда об армии мы знаем только то, что это какая-то гадость — ровно то же самое, что мы знаем про государство.
Возвращаясь к вопросу о мальчиках — да, не хватает маскулинности. Ну какие могут быть мужики? Мужики появляются, когда им есть что делать. Иначе будут п***сы, алкоголики или бандиты, или все вместе. Но не будет предъявлен, например, образ «настоящего русского мужика» — того мужика, который на самом деле должен быть везде. Это не обязательно простой работяга, скорее прораб или инженер. Во многих районах еще сохранились столовые и рюмочные, где в обед собираются как раз такие мужики. По ним понятно, что они не менеджеры, они занимаются чем-то полезным, и при этом их не может быть в «Кофе Хаузе». «Кофе Хауз» очень интересно сегрегирует потребление, мужик, который занимается делом, там обедать не будет. Я буду, а тот типаж технаря, даже не рабочего, а ступенью выше, который нам делает электричество, интернет и вообще все делает, — нет.
 И.А.: Почему тебя это удивляет? Во все времена были мужики — бортники и лотошники, а были люди, которые сидели в кафе, были полотеры, а были фланеры…
И.А.: Почему тебя это удивляет? Во все времена были мужики — бортники и лотошники, а были люди, которые сидели в кафе, были полотеры, а были фланеры…К.Б.: Но разве, заходя в рюмочную, ты не чувствуешь, что там отражен некий социальный срез, причем он там отражен скорее территориально, способом принадлежности к некоему месту? При этом ты видишь настоящих дядек, которые между рабочими сменами приходят туда пообедать, пропустить рюмку и поиграть в шашки. Но в смысле потребительства — это вымирающий типаж, для него нет в городе ниши в виде больших сетевых заведений.
А.М.: Возможно, у них нет потребности в таком потреблении. Им не нужно общение в кафе, они после работы идут домой, где им жена приготовила прекрасный борщ. Это не их проблема, это наша проблема: мы не знаем, где они живут с женами и борщом, какая эстетика им соответствует. Если мы вообще об этом задумываемся, то представляем себе, скорее всего, типовое жилье — кварталы многоэтажек. Вы ведете цикл лекций-кинопоказов об архитектуре в кино. Там отражен этот тип человека? Как вообще соотносится архитектура с социальной типологией?
И.А.: Архитектура для нового человека строилась в рамках модернистского проекта, но ее пик пришелся на сталинскую эпоху. Сталинская архитектура изначально была нацелена на создание памятников. ВДНХ — это изначально памятник, высотки — тоже. Кино — среда, в которой их можно представить с самой выгодной стороны, избавить от утилитарности. Как только была построена ВДНХ, немедленно появились фильмы, где она присутствовала во всей красе, в идеальном ракурсе, живая пропаганда. Или высотки, или метро, или речной вокзал… Эти фильмы сразу же начинали показываться по всей стране, и все узнали, что в Москве появились ВДНХ и метро, это то, что нужно смотреть, приехав в Москву, это самое главное и модное.

А потом архитектура стала проклятием общества. Все эти жилмассивы во всех крупных городах по всему миру, предназначенные для того, чтобы облагородить жизненную среду малообеспеченной прослойки населения, проектировались как модель светлого будущего. Самый известный из них — квартал Прюитт-Игоу в американском Сент-Луисе, который был построен в середине 1950-х годов тем же архитектором Минору Ямасаки, что потом стал автором «башен-близнецов» в Нью-Йорке. Это была утопия социального жилья, куда планировали заселить и черных, и белых, устроить там же магазины, школы и в целом обеспечить хорошую жизнь. А через двадцать лет обнаружилось, что ни фига: все, кто мог, оттуда очень быстро уехали, оставшиеся развели преступность, к концу 1970-х эти кварталы пришлось снести, и кадры сноса этих зданий вошли в фильм «Койяанискаци». Это хрестоматийный пример, но социальная проблема модернистских жилмассивов, которые строились с целью инспирировать новую прекрасную жизнь, а стали рассадниками преступности, присутствует во множестве фильмов. «Ненависть» Матьё Кассовица показывает жизнь трущоб на окраине Парижа, где разноцветное население торгует наркотиками и мочит друг друга, а сам квартал представляет собой набор идеальных параллелепипедов, на брандмауэрах которых во всю высоту пятиэтажки — портреты Бодлера и Рембо. Иконы модернизма, на фоне которых выясняет отношения гопота с пистолетами.

К.Б.: Важно, что гопота снята в связи с архитектурой, она не придумана отдельно от этих домов, мы видим переживание этих объектов дешевого социального жилья. Начиная с 1960-х годов присутствие социального жилья в западном кинематографе — уже, как правило, критика. Годаровская антиутопия «Альфавилль» была снята в только что построенном аэропорту Шарля де Голля, в котором еще почти никто не был, но Годар уже критикует этот образ будущего.
Есть интересный момент: у модернистской архитектуры должны быть и критики, которые сразу препарируют этот образ будущего, и те, кто, наоборот, воспевает ее, считая, что здесь-то все и случится. Так вот, с 1960-х годов фильмы о том, что «здесь-то все случится» были только в Советском Союзе, который оказался неким заповедником утопий. Западный кинематограф пошел по пути антиутопий, даже до смешного: всё антиутопии да антиутопии… ну произвели бы хоть какой-то идеал! Но нет, оказалась вообще отключена такая опция, как производство идеала, по крайней мере, в кинематографе. Даже частные особняки, непременно присутствующие в стандартных сюжетах, когда бедная красавица попадает во дворец к прекрасному принцу, выступают исключительно как архаический идеал.

А.М.: Но Москва в «золотые 2000-е» ведь строилась именно как пространство идеала, что с этим идеалом случилось?
К.Б.: То, что случилось, прекрасно показано в фильме «Елена»: противопоставление московских окраин, намеренно мрачно снятых, и Остоженки, где живет Елена со своим предпринимателем. Остоженка — место, где появилась новая русская архитектура, но если знать контекст, становится понятно, что Остоженка в «Елене» — это крах, потому что был очень хороший проект, но он не осуществился, всю среду заполонила современная архитектура.

И.А.: Ситуация как с любым заповедником, будь то социальное жилье для бедных или закрытый район для богатых, все равно они после какого-то предела оказываются непригодными для жизни.
К.Б.: Да. Понятно, что зубры хотят жить только с зубрами, слоны только со слонами, богатые с богатыми, бедных вообще никто не спрашивает, но в итоге и там, и там образуется гетто. Современное гетто для богатых устроено так, что в нем есть зеленые улочки, по которым можно ходить, которые выходят к Москве-реке, и вообще говоря, там здорово. Но поскольку все богатые работают в Кремле, ездят в тачках с тонированными стеклами и скрывают свои доходы, они никогда не ходят по улицам. Они приезжают с работы, заезжают в подземный паркинг, и никого, кроме людей, у которых в ухо вставлен белый проводок, ты там не встретишь. Хотя сам этот градостроительный проект в принципе демократический, репрезентирующий открытость. Но потреблять эту открытость некому. Все-таки не нужно было выселять всех бабушек.