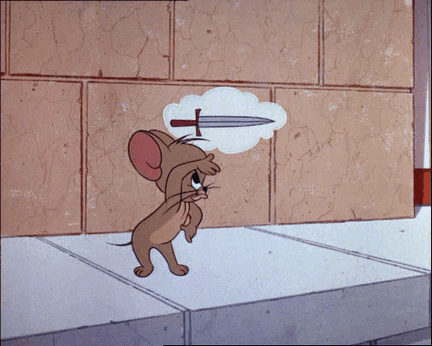07.03.2013 65785
Евгений Антуфьев — злоба и ненависть
16 февраля в Collezione Maramotti (Реджо-Эмилия, Италия) открылась персональная выставка художника Евгения Антуфьева «Двенадцать, дерево, дельфин, нож, чаша, маска, кристалл, кость и мрамор — слияние. Исследование материалов». Шеф-редактор «Артгида» Мария Кравцова решила, что это удобный момент для того, чтобы обсудить с художником темы, давно интригующие ее, но часто не связанные непосредственно с искусством.
 Евгений Антуфьев. Фото: Екатерина Алленова
Евгений Антуфьев. Фото: Екатерина Алленова
М.К.: Первое, что я давно хочу узнать: хотелось ли тебе когда-нибудь вступить секту? Когда я училась в школе, все почему-то считали меня сектанткой. Не знаю почему. Видимо потому, что у меня ногти были накрашены черным лаком.
Е.А.: Думал об этом. Меня всегда привлекали закрытые сообщества.
М.К.: И в результате ты пришел в пронизанный сектантством мир современного искусства и довольно успешно и за короткий срок создал вокруг себя закрытое сообщество.
Е.А.: Ну ты утрируешь. С таким же успехом можно сказать, что это они меня собрали. Вокруг пустыня, и естественно, что любой живой человек, который встречается в этой пустыне, вызывает удивление.
Это очень российская история — все встречают живых существ и оказываются настолько поражены этой встречей, что потом друг от друга уже далеко не отходят. Посмотри на любые сформировавшиеся комьюнити — десяток небольших групп: школа Родченко, студенты ИПСИ, взрослые художники... И всех совершенно не интересует то, что происходит за пределами их маленького круга. И меня, честно говоря, тоже не интересует.

М.К.: Ты вообще не самый дружелюбный человек, особенно при первой встрече. Поэтому неожиданная синергия с коллекционером Луиджи Марамотти, в фонде которого только что открылась твоя выставка, мне кажется довольно странным явлением природы. Это он попал в твою коллекцию или ты в его?
Е.А.: Существует несколько версий этой истории. Выбирай, какую тебе рассказать, — про темный лес или про кораблекрушение.
М.К.: Кораблекрушение.
Е.А.: Однажды произошло ужасное кораблекрушение. Выжили только двое — я и мистер Марамотти. Около года мы прожили на необитаемом острове, помогали друг другу во всем: убивали диких чудовищ, искали воду, плели корзины. Через три года мимо острова проплывало небольшое рыбацкое судно, и нас спасли.
Мы с мистером Марамотти за время лишений так сдружились, что поклялись быть друг другу как братья и во всем помогать друг другу. Я спросил, что я могу для него сделать. И он мне ответил: «Женя, сделай выставку в моем музее!» И так все произошло.
А вообще это довольно странная идея для коллекционера — дать художнику сразу шесть комнат, притом что до этого он видел всего шесть моих работ в витрине на выставке «Остальгия» в Нью-Йорке. Практически по комнате на работу. Было верное сочетание знаков, многие созвездия сошлись.
М.К.: Сомнения не терзали? Не помню, чтобы ты до этого осваивал такие большие пространства.
Е.А.: Все, конечно, говорили, что это чересчур большое помещение. Но у меня давние отношения с большими пространствами. Первая выставка на «Винзаводе» на площадке «Старт» была около 200 метров (тогда еще не построили белых стен). Проект на «Старте» стал моей первой, причем сразу персональной выставкой — до этого я даже в групповых проектах не участвовал. После этого все проекты только разрастались. А те, что были камерными, — я сейчас думаю о том, чтобы доделать их.
Моя хорошая знакомая шутит, что мне никогда не бывает достаточно. И это правда. Мне всегда недостаточно, всегда недоволен. Недостаточно уважения, недостаточно пространства, недостаточно хороший получается каталог, недостаточно денег вложено в выставку. И сейчас я смотрю на семь комнат выставки (седьмая — секретная. — «Артгид») и чувствую, что недостаточно, нужно еще. У меня вообще отсутствует чувство насыщения.

М.К.: Вот все и встало на свои места. Ты — вечно голодный демон из буддийской мифологии. В них перерождаются те, кто при жизни на Земле обжирался или выбрасывал еду. Голод их неутолим, но они не могут от него умереть. Они едят все что угодно, даже своих детей, но не могут насытиться.
Е.А.: Это, кстати, правда: если вижу еду, я не способен остановиться, поэтому ничего не покупаю домой. Если куплю что-то, то съем все за один день. Потом мне плохо, я не способен пошевелиться.
М.К.: Я всегда знала, что ты — потустороннее существо.
Е.А.: Ты, кстати, говоришь неправду. Помню наше первое интервью, и ты очень презрительно со мной разговаривала! Я все запомнил! Почему ты так разговаривала?
М.К.: Как художник ты меня сразу заинтриговал, в том числе и удивительным высокомерием. Я тогда, конечно, хотела поговорить не только о твоих работах, но и о том, почему у тебя нос заклеен пластырем. Но я постеснялась.
А работы твои мне сразу понравились. Я, кстати, была тем анонимным коллекционером, который когда-то хотел купить твою работу через одну нашу общую знакомую. Ты мне отказал — по ее словам, ты хотел знать, кто именно желает приобрести твою работу. А я хотела сохранить инкогнито, мы же с тобой, мягко скажем, не дружили.
Е.А.: Ха-ха-ха, это мягко сказано. Не буду говорить, как я тебя несколько лет называл. Но видишь, пустыня нас опять свела. Наши сердца смягчились. Хотя обычно я ничего не забываю. Спустя годы способен припомнить мельчайшее оскорбление или то, что мне показалось оскорблением.
М.К.: Очень хорошо помню художественную ситуацию нулевых, которая во многом была продолжением 1990-х, развивалась по инерции. Было ужасно скучно: во-первых, выставлялись постоянно одни и те же (и их было мало), а еще было изначально понятно, что ты увидишь, когда придешь на выставку. Вообще никаких неожиданностей.
Но ближе к концу нулевых буквально ниоткуда появилось очень много новых художников: ты, Арсений Жиляев (участник организации «Российское социалистическое движение» — РСД, признанное иноагентом Минюстом РФ), Андрей Кузькин, Олег Доу, Хаим Сокол, Анна Титова и так далее. И что бы кто ни возражал, я чувствую, что можно уже говорить о новом художественном поколении. Какими, по-твоему, ключевыми словами его можно описать?
Е.А.: Я могу говорить только за себя. Мне кажется, что жадность — это очень важно. Жадность и зависть — ключевые слова для определения моего поколения. Всем его представителям всегда всего недостаточно, всегда нужно только больше, больше, больше. И у тех, кто смог с этим как-то справиться, конвертировать это чувство в энергию, все хорошо. Иным же остаются бесконечные сеансы самопожирания.
Ну и конечно, злоба и ненависть — эти великие раскаленные очистительные чувства. Мне кажется, ты знаешь, о чем я говорю.

М.К.: По-моему ты опасно откровенен. Помню, как в Италии во время экскурсии по выставке «Двенадцать, дерево, дельфин, нож, чаша, маска, кристалл, кость и мрамор — слияние. Исследование материалов» ты упомянул о своих симпатиях к маньяку Джеффри Дамеру. Представляю, как бы вытянулись лица присутствующих, если бы они знали, кто это. Но они не знали.
Е.А.: Его история — одна из самых потрясающих в мире историй любви и одиночества. Хорошо понимаю, чем он занимался и для чего, зачем ему нужны были все эти разрезанные негры.
К нашим маньякам у меня отрицательное отношение. К Чикатило, например. Да, там есть забавные вещи. Например, было казнено несколько человек, которые признавались в его преступлениях, и так далее. Но вообще Чикатило — мерзкий старикашка, а его история — мясницкая, гадкая и гнилостная, и при этом совершенно российская. Причем в худшем смысле, из области мягкой мебели, обоев с золотыми разводами и новогоднего стола с салатами.

А Джеффри Дамер — от него какое-то сияние исходило. Когда я читаю о таких людях, как он, то вспоминаю о тибетских демонах в коронах из черепов, многоруких, многоглавых, одиноких, танцующих на горах мертвых тел. Если бы я не стал художником, моя история могла бы кончиться такой же ерундой. Я, конечно, сейчас немного лукавлю, стараюсь понравиться тебе. Но при этом я понимаю логику Дамера, понимаю, что он пытался найти внутри всех этих людей.
М.К.: Что?
Е.А.: Что-то сияющее холодным светом, что-то вечное. Думаю, ему надоела эта история расставаний, история утраты. Потому что в этой космической пустоте, вакууме хочется прижаться к чему-то, но в тепле быстро разочаровываешься — все это слишком мимолетно, слишком быстро прогорает. Холод в этом плане честнее. На выставке, кстати, седьмая секретная комната — она о бессмертии, там последний тайный ключ к выставке. Почему ты не посмотрела ее?

М.К.: Потому что ты туда нас не пустил!
Е.А.: Нужно было попросить отдельно! Я не мог во время экскурсии показать, слишком много незнакомых людей. Комната, кстати, скоро перестанет правильно работать, в Италии очень быстро теплеет после зимы. А холод — одно из самых важных качеств этой комнаты.
Кстати о маньяках. Чувство рассечения, «разъятия» — оно очень важно: когда ты осознаешь это чувство, мир превращается в бесконечную цепочку трансформаций. Два года назад открыл этот метод и до сих пор не устаю ему поражаться. Вот, например, использовал порошок из костей дельфина — и уже в этом словосочетании таятся сладкие обещания.
М.К.: Я не знаю другого художника, который работал бы со столькими необычными материалами сразу. Кости, волосы, пластик, ткани. На твоей предыдущей выставке «Исследование материала: поглощение» мне понравилось, что ты использовал конфеты — такие особенные пупырчатые конфеты. Я такие покупала в детстве, они были очень мерзкие на вкус и очень странные на вид.
Е.А.: Влекущие и разочаровывающие?
М.К.: Да. У меня при виде этих конфет, которыми ты орнаментировал маски, произошла реакция, описанная Роланом Бартом в Сamera Lucida. Для итальянской выставки таким смыслообразующим, одновременно странным и естественным материалом для меня стал мрамор.
Е.А.: У нас очень странный разговор. Мне хочется теперь и про Барта сказать, и про мрамор. У Барта есть чудесная история про удаленное ребро, и про нее можно очень долго говорить. Поэтому, наверное, лучше про мрамор. Мрамор, кроме своих пластических свойств, интересует меня и в связи с историей одиночества. Почему? В Италии это оказалось невозможно объяснить. Они этого совершенно не чувствуют, для них мрамор — это что-то домашнее: кафе, дом, магазин.
В России мрамор — это чувство, когда ты один. Больница, подъезд, любое бюрократическое здание, подземный переход и ледяной ветер. Тут нужно сказать, что наша зима накладывается на мрамор удивительном образом: я всегда думаю о холодном мраморе, о ветре, о льде, о немеющих пальцах. В мраморе нет никакого тепла.

М.К.: Мрамор в российских домах выглядит довольно неестественно. В Италии, например, мраморная раковина в гостинице — нечто само собой разумеющееся, у нас же она смотрится одновременно убого и амбициозно.
Е.А.: Да, у нас мрамор — отверженный материал. И конечно, это ощущение на выставке для итальянцев совершенно потерялось. Страшно подумать, какие собственные параллели они провели, какие ассоциативные линии протянули. Но их очень заинтересовало, что кроме каррарского мрамора я использовал пленку под мрамор — оракал.
Как раз эта дебильная пленка, вот этот материал — он теплый. Когда я думаю о своем детстве, мне сразу же вспоминается это течение фальшивого мрамора и кольца огромных золотых питонов. Наверное, в каждой семье было что-то с фальшивым мрамором, и в каждом фотоальбоме фотография с питоном в руках.
М.К.: У нас дома такой пленкой были оклеены двери. Теперь мы живем в белом кубе, но есть опасение, что моим родителям в стильном интерьере не очень комфортно.
Е.А.: Я был абсолютно уверен, что и у тебя что-то было, — при всей разности нашего детства все эти вещи зашифрованы у нас в генокоде.
Пленка, кстати, оказывала на итальянцев магическое влияние (опять же непредсказуемое). Им казалось, что я нашел настоящий мрамор удивительных оттенков — сама идея, что это искусственное, казалось им странной. Для русского взгляда — наоборот. Я, например, заходил с Антоном Беловым в Реджо в дешевое кафе, и он как раз не мог поверить, что стойка из настоящего зеленого мрамора, — ему казалось, что это пластик.
Визуально мрамор — один из самых мягких материалов. Визуальная точка плавления у него очень низкая. Он может в какой-то момент взять и растечься. Возможно, в конце времен так и произойдет, хотя тогда, наверное, вся материя станет жидкой, но мрамор, думаю, первым из неорганических веществ.
И одновременно это очень «некротический» материал. Тело в серых прожилках. У меня есть текст в каталоге про это.

М.К.: Раз уж речь зашла о некроэнергиях, давно хотела тебя спросить, что ты думаешь про «некроманта» Анатолия Москвина, который выкапывал детские трупы и делал их них кукол в масках.
Е.А.: В твоем описании это выглядит некрасиво. Он вовсе не был так прост. Я думаю, ты прекрасно знаешь, что я про него думаю. Я думаю, что, как ни странно, это самый интересный художник в России — за последние тридцать лет точно. А может быть, и дольше. Про него одного можно записать отдельный текст.
Вообще это чудовищно странная вещь, что после авангарда русский ар брют оказался, наверное, самым важным и интересным сейчас. Лобанов, Роза Жарких, Левочкин, Москвина можно туда же отнести. Вот они же невероятно свежо выглядят, при этом они в вечности, а какой-нибудь Кабаков — чудовищный артефакт из прошлого, что-то вроде дискового телефона или очередей за хлебом. Ничего, кроме раздражения.
М.К.: Что же тогда является естественным свойством пейзажа в России?
Е.А.: Сопротивление материалов. Я специально ходил с Мариной Даччи, директором Collezione Maramotti, в московское метро на экскурсию. Она очень удивлялась сочетанию мрамора, бронзы, мозаик и дешевого кафеля, проводов, алкидной краски.
В России любые эстетические коммуникации строятся на насилии, материалы соединяются по довольно запутанной логической схеме, а часто и без нее. В этом величайшая сила, так как сейчас у нас реальность еще не застыла, как в первые дни творения. Сейчас довольно легко можно подчинить ее. Вылепить любую форму.
Я не понимаю, как в Италии можно быть молодым художником и работать с материалом. Реальность сплавлена в одну структуру, в которой нет ни малейшего просвета, все слишком хорошо, слишком ровно. Вся итальянская культура вещей настолько цельная, что с ней просто невозможно работать. Там нет зазоров, нет щелей.

М.К.: Мрамор в принципе ассоциируется с таким понятием как искусство, в отличие, например, от метеоритного железа, которое ты тоже используешь.
Е.А.: Метеоритное вещество — довольно сомнительная вещь. Метеориты как таковые меня совершенно не интересуют, более того, мне кажется, что это дурновкусный материал. Художнику, который впервые в жизни хочет поработать с чем-нибудь странным, сразу же в голову приходит метеорит. Поэтому я никогда о них и не думал. Меня интересует только один метеорит, найденный в Туве, — метеорит Чинге.
Помню, как читал историческую книжку про Туву, и там была одна строчка «Николай Черневич — первооткрыватель метеорита Чинге». Я сразу почувствовал, что это что-то необыкновенное. Перечитал дома всю краеведческую литературу, в местном краеведческом музее долго общался с сотрудниками, они нашли мне кусок метеорита в запаснике.
История метеорита любопытная, но довольна типичная, ничего там потрясающего нет. Но этот метеорит — он для меня. Не могу логически и даже метафорически или символически объяснить эту уверенность.
Целый год думал про этот метеорит, и в результате нескольких сложных и дорогостоящих комбинаций стал обладателем нескольких кусков. И вскоре они превратились в нож из метеоритного железа. Вот с ножом все просто: почему он важен — объяснить легко. Нож соотносится с религиозными практиками рассечения тела, все это меня очень интересует.
На самом деле не так уж важно, с какими материалами работать. Важнее знать главные законы, по которым все строится. Их бесчисленные количества, и тут уже каждый выбирает сам. Я выбрал: закон подобия, метод рассечения и симметрию.
М.К.: Когда я слышу эти слова, я скорее вспоминаю Канову. Мне кажется, искусство — это самое нейтральное слово для описания того, что ты делаешь. Его часто употребляют для объяснения того, что остается непонятным: видишь нечто необычное, не понимаешь, что это, и, для собственного спокойствия прежде всего, относишь это к категории «искусства». Мне всегда казалось, что ты создаешь магические предметы, с которыми, наверное, непросто жить. Тебе важно, кто претендует на то, чтобы иметь твои работы у себя? Ты готов продать их любому коллекционеру? Или личность имеет значение?
Е.А.: В этом проблема работы с галереей: невозможно контролировать продажи, не знаю многих людей, у которых мои работы. У меня есть только один любимый коллекционер — Луиджи Марамотти.
Хотя была недавно интересная история. Коллекционер купил маску и рассказал, зачем. Он живет на небольшом острове в Европе. Там очень скучно, и они с соседями устраивают костюмированные вечера. Например, у него есть костюм белого медведя, а у одного из соседей костюм тунца. И вот эту маску он купил для таких вечеров.
Сначала это привело меня в ярость, так как мои работы не для вечеринок. Но потом я понял, что это совершенно другая история: остров, одинокие люди, костюмы, деревья, освещаемые фонарями. История совершенно кинематографическая. Я даже представляю фильм.
А так я не понимаю, кто коллекционирует мои работы. Наверное, это довольно странные люди.