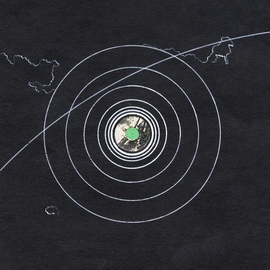В начале был модерн. «Розы» символизма в горне модернизма
До 17 мая в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ открыта выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х». Она посвящена саратовской школе живописи, возникшей на рубеже XIX–XX веков и продолжавшей развиваться в советскую эпоху. Сегодня мы знакомим наших читателей с одним из текстов будущего каталога выставки: искусствовед Ольга Давыдова рассказывает о том, как саратовская школа формировалась в кругу Виктора Борисова-Мусатова и объединения «Голубая роза».
 Кузьма Петров-Водкин. Двое в лодке. 1896. Холст, масло. Фрагмент. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева
Кузьма Петров-Водкин. Двое в лодке. 1896. Холст, масло. Фрагмент. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева
В одном отношении не следует терять
чувства времени — в отношении прошлого.
Арнольд Шёнберг. Из письма к В. Кандинскому
(24 января 1911)
И душа этой розы вселилась в мою
С ароматом ее обаятельным
И с восторженной страстью внимал я ручью,
Очарован журчаньем мечтательным…
Альфред Теннисон. Maud, or Madness
(«Мод, или Безумие», 1855)
Саратов, Москва, Санкт-Петербург — три геокультурные координаты, которыми рубеж XIX–XX веков отметил творческую молодость большинства главных героев настоящей выставки. Начало новой «эры чутких восприятий», взращенное идеалистическим упрямством fin de siècle в поиске неведомых ранее образных миров, на почве русского изобразительного искусства ознаменовало себя культом символистских роз. Из саратовского садика, в духе уединенного усадебного флигелька Виктора Борисова-Мусатова на Плац-параде, розы эти разрослись до неувядающих «Алых» (выставка 1904 года, Саратов)[1] и «Голубых» (экспозиция 1907 года, Москва)[2] соцветий в оранжерее мирового модернизма в его национально своеобразной лирической фазе. В 1990-е годы мифопоэтическое эхо символистского «гена» саратовской школы отозвалось в программных выставках саратовских художников «Белая роза» (1991, 1992, Саратов) — ностальгической коде ХХ столетия по Серебряному веку. Парадокс из рода фатально творческих закономерностей: ХХ век оплакал ХХ век.
«Он из тех, кого томит мучительное сожаление о потерянных эдемах»[3], — эти слова Эмиля Верхарна, посвященные Рембрандту и его внутреннему творческому «императиву», можно было бы смело адресовать как к самой эстетической атмосфере эпохи модерна, так и к группе художников, стоявших у истоков ее поэтики. Однако в случае с большинством из «саратовцев», рассматриваемых ныне в контексте основоположников «саратовской школы» (в частности, с Виктором Борисовым-Мусатовым, Павлом Кузнецовым, Петром Уткиным, Кузьмой Петровым-Водкиным, Александром Савиновым, скульптором Александром Матвеевым), томление это имело иной тембр и темпоральность: оно развивалось не столько в религиозно-драматическом направлении, сколько в лирически созидательном, поэтическом русле воспевания символистской тоски по «едва начинающейся неопределенности»[4]: «В мире никогда ничто не умирает. Все вечно движется вперед и только принимает другие формы»[5], — пояснял в одном из писем Виктор Борисов-Мусатов состояние, при котором душа становится «формой форм», сущностным началом всех образно видимых явлений. Причем доминирующей характеристикой в эмоциональном регистре созерцательно-стилизованной образной системы названных выше мастеров была пластически ощутимая интонация ликующей радости, что не исключало, конечно, ни ноктюрной грусти, ни трагичности, ни экспрессии, ни симфонизма: «Мой чердак осветился Божественно колыхающимся светом, “благодарю Вас за подсвечник”. Я начал писать несколько вещей, которые дают мне тоже восторг. Я думаю, что я доведу до конца свой восторг, хотя очень, очень много труда к подготовке, чтобы соединить все сочетания в одно целое: рисунок, выражение и живопись»[6], — писал Павел Кузнецов своему старшему товарищу (другу-учителю) Виктору Борисову-Мусатову, одному из главных (наряду с Михаилом Врубелем) творческих ориентиров художников «Голубой Розы» — не только саратовской части группы, но и московской. «Никому не приходило в голову подражать Мусатову, но незаметно ему отдавали какую-то дань, оставаясь самими собой, что может считаться лучшей формой воздействия большого мастера»[7], — отмечал в своих воспоминаниях голуборозовец (или, как писал Андрей Белый, «голуборозник»[8]) Василий Милиоти, принадлежавший к числу наиболее последовательных и оригинальных выразителей эстетических идей рубежа XIX–XX столетий.

Если быть точнее в обращении с метафорами, опирающимися на формальные качества живописного и графического стиля художников-саратовцев начала ХХ века, разных по индивидуальностям, но объединенных особым тяготением к светящимся приглушенно-звучным гармониям молочно-голубых, золотисто-синих, серебристо-дымных и лилово-пепельных тональностей, от каждого красочного мазка их кисти веяло радостью встречи с незримо певшей внутри музыкой, находившей опору в пейзажных мотивах внешнего мира. Несмотря на то, что в 1910–1920-е годы тончайшая колоратура живописи большинства художников станет более динамичной, порой — локально контрастной, потаенное колористическое «сфумато» интуитивно будет сообщать внутреннее единство их цветовым решениям. Неслучайно в 1905 году Павел Кузнецов, уже глубоко увлеченный поиском новых пластических средств, способных выразить метафорические возможности художественных образов, свои картины характеризовал не иначе как музыкальные симфонии: «Я восторгаюсь упоительными утрами, бьющими свежестью ароматов. Я провожаю увядающее солнце. Я думаю, что напишу восход и увядание»[9]. В другой заметке художника середины 1900-х годов образные критерии раскрыты еще более подробно, а по сути рассматриваемого нами вопроса о существовании особой «саратовской» призмы в русском искусстве эпохи модерна — более глобально: «Время летит очень быстро, прошло уже лето, настают ветра и дожди. Сегодня чудесный день, сквозь тонкую пелену просвечивает солнце, все вторит Божественному упоительному солнцу. Я работаю. Впиваюсь в ароматы прозрачностей. Написал несколько симфоний, трудно закончить; то есть, чтобы все было на месте и было закончено, нужно много работать, я чувствую, что нужно ехать в Париж и там учиться, и много, много. Я скоро думаю в Москву…»[10] В связи с этим образным пассажем Павла Кузнецова о развоплощающей предметный мир любви к его же цвету и ритму, нельзя не вспомнить суггестивный тезис другого искателя нового языка в искусстве Арнольда Шёнберга: «Ухо устроено лучше [чем глаз. — О. Д.]»[11]. Однако, конечно, для художников-символистов слышащим органом самопознания были глаза.
На программном уровне (хотя и иносказательно) саратовские письма Павла Кузнецова, преодолевая частный формат, отражают не только его индивидуальные творческие принципы, но и вообще все те свойства живописного мышления мастеров, приобщившихся к натурным впечатлениям саратовской природы в начале своего пути в искусстве, которые будут присутствовать в разных вариантах их образных поисков, сказываясь прежде всего в особенностях музыкального восприятия цвета, света и в тяготении к пейзажной метафоричности.
Несмотря на разный артистический масштаб, профессиональное мастерство и тематический круг, образовавшаяся к настоящему времени историческая дистанция выявляет еще одно общее психологическое качество во всех тех художниках саратовского круга, которые сейчас рассматриваются в контексте «саратовской школы»: на мир они смотрели добрыми глазами «с трепетом в сердце»[12] (преимущественно глазами пейзажистов), что, возможно, и позволило им удержать собственную (порой камерно различимую) стилистическую интонацию в постреволюционные годы. Туманно-призрачная живопись символистов, к которым «без обиняков» принадлежат упомянутые выше мастера, рождалась на предельной глубине жизни души, что и позволяло художникам создавать визуально осязаемые поэтические субстанции, навсегда поселившиеся в том измерении истории через искусство, которое с гармоничной деструктивностью разрушает привычные границы не только между временами, но и реальными пространствами.

Что же такое феномен «саратовской школы» и какова ее творческая география?
К настоящему времени понятие это вписано в живой эволюционирующий процесс, который, расширяя хронологические границы «саратовской школы», неизбежно включает в нее новые имена, характеристики и уровни прочтения смыслов: школа априори не может быть явлением застывшим, не видоизменяющимся, иначе она просто умирает. И все же определенные вехи на пути ее развития история искусства способна осознать и зафиксировать. Главной и неизменно важной точкой отсчета, связанной с периодом зарождения идеи о существовании «саратовской школы», стал рубеж XIX–XX столетий[13]. Вопрос о точной локальной характеристике — Саратовской губернии — не мог не играть в данном случае важного значения. Случилось так, что именно Саратов и его окрестности (в частности, Хвалынск — малая родина Кузьмы Петрова-Водкина) стали не только местом рождения целого ряда выдающихся мастеров эпохи модерна (а порой и долгих периодов жизни, несмотря на переезды), но и тем духовно памятным пространством, которое открыло молодым художникам творческое измерение реальности.
Поэтические моменты провинции совмещались в Саратове конца XIX века с культурными замыслами «столицы» среднего и нижнего Поволжья. Большую роль в деле воспитания артистического вкуса у молодежи играл художественный музей им. А. Н. Радищева, открытый на основе коллекции пейзажиста А. П. Боголюбова в 1885 году. В 1887 году было организовано Саратовское общество любителей изящных искусств, в Студии живописи и рисования (с 1892 года — Рисовальной школе) при котором учились Павел Кузнецов, Петр Уткин, Александр Матвеев. Во второй половине 1890-х годов трое энтузиастов поступили в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ): Кузнецов, Уткин, а также Петров-Водкин — в 1897-м, Матвеев — в 1899 году. С этого времени начался профессионально важный этап их постепенного вовлечения в ауру символизма (или, как тогда порой критически его называли, декадентства), утверждавшегося в творчестве более старших художников Москвы и Петербурга, прежде всего, благодаря инициативной деятельности объединения «Мир искусства». При этом нельзя не отметить, что сквозь призму собственного темперамента и интеллекта начинающие художники, поступившие в МУЖВЗ, продолжили во многом развивать то поэтическое по своей природе направление в области визуального творчества, которое одним из первых сознательно стал воплощать в своих произведениях саратовец Виктор Борисов-Мусатов.
Именно в МУЖВЗ складывается та творческая общность, состоявшая из двух основных групп «москвичей» и «саратовцев», которая будет связана с формированием новых иконографических и пластических традиций в искусстве русского символизма первого десятилетия 1900-х годов. Один из ведущих мастеров «Голубой Розы» Анатолий Арапов, воскрешая в памяти ранние впечатления от обучения в МУЖВЗ, вспоминал: «Жизнь внутри школы была чрезвычайно увлекательна и интересна. Находясь в ее стенах, я был преисполнен гордости. Это была жизнь школьной богемы. <…> Наряду с нашей Московской группой [имеются ввиду Сергей Судейкин, Георгий Якулов, Николай Сапунов, Николай Крымов. — О. Д.] в Школе объединяется так называемая Саратовская группа. [Павел] Кузнецов, [Мартирос] Сарьян, [Петр] Уткин, [Кузьма] Петров-Водкин, [Владимир] Половинкин были главными представителями этой очень дружной группы молодых художников. Когда определилось петербургское течение “Мир Искусства”, то художники этого объединения представлялись нам более европейцами, чем мы, москвичи, а остряк Сапунов группу Саратовцев называл “пошехонцами”. Сапунов был коренным москвичом, по окончании Училища, которое он быстро и победоносно прошел, Сапунов побывал в Италии и привез оттуда свои сочные впечатления, о которых увлекательно повествовал»[14].


Довольно быстро обе группы слились в единое творческое направление на основе общих эстетических симпатий к концептуальным аспектам стиля модерн и одному кругу общения с прогрессивно мыслившими художниками (В. А. Серовым, К. А. Коровиным). Немалую роль в сближении сыграла и дружба с Саввой Ивановичем Мамонтовым, у которого Павел Кузнецов был в любимцах[15].
Стремления, владевшие молодыми «пошехонцами» и москвичами, такие как поиски декоративной выразительности полотна, достигаемой предельной адекватностью художественного языка эмоциональному настроению образа через ритмическую стилизацию, слияние цветовых и звуковых ассоциаций в границах живописной плоскости и за ее пределами, впервые стали очевидными на выставке «Алая Роза», открывшейся в Колонном зале саратовского Дворянского собрания 27 апреля 1904 года по инициативе Павла Кузнецова и Петра Уткина — «Санчо Панса» и «Дон Кихота», как их называли в кругу друзей[16]. Выставке предшествовал «Вечер нового искусства», устроенный виолончелистом Михаилом Букиником в залах Саратовского музыкального училища. В этой встрече приняли участие деятели разных искусств: Кузнецов представил свои панно, специально приехавший Константин Бальмонт читал стихи, пианист Александр Гольденвейзер и Михаил Букиник исполняли произведения современных композиторов. Принцип устроения подобных вечеров и выставок апеллировал к пониманию процесса слушания и созерцания как единого действа, схожего с ощущениями театрального представления, только на более глубоком уровне личного проникновения в произведение.
В названии выставки «Алая Роза» уже сама по себе была заложена претензия на выразительный, эффектный жест. С одной стороны, оно пробуждает ассоциации с пьесой Саввы Мамонтова «Алая роза» (1888), явившейся своеобразным модернизированным переложением «Аленького цветочка» с переносом места действия в экзотическую Испанию. С другой, как вспоминал Петр Уткин, в алом цвете розы — солнечном, огненном — изначально была заложена возможность появления чего-то нового, выходящего за рамки прозаической действительности. Приблизительно в то же время алая роза появляется и у другого символиста — писателя Андрея Белого. В его «Второй симфонии» (1902) она становится эффектным проблеском вольнодумства, всегда ценимого артистическим обществом: «А сегодня демократ гулял по улицам с алой розой в руке, устремив к небу свои робкие, мечтательные глаза <…> ему в глаза глядел свод голубой, одинаковый для либералов и консерваторов»[17].
Стоит отметить, что художники будущей «Голубой Розы» тесно общались с литераторами-символистами, сыграв значительную роль в контексте развития визуально-эстетической программы журналов «Весы» (1904–1909) и «Золотое руно» (1906–1909)[18]. Издателем последнего был главный меценат молодых символистов Николай Рябушинский, происходивший из семьи крупных московских промышленников — личность экстравагантная, он был страстным любителем искусства, пробовал свои силы в художественном и литературном творчестве, в частности, экспонировал пять работ на выставке «Голубая Роза» и писал статьи и стихи под псевдонимом «Н. Шинский» в журнале «Золотое руно».
Кульминацией творческого выражения саратовцев символистского периода стала выставка «Голубая Роза», с которой долгое время прежде всего и ассоциировали «саратовскую школу»[19]. Стоит отметить, что в период проведения выставки, зацветшей, как и «Алая Роза», по весне — в марте 1907 года, художественная культура Москвы переживала яркий и сложный этап ломки старых творческих устоев. «“Декадентство” несомненно вошло в моду», — писал в 1904 году критик Александр Ростиславов[20]. Подобное впечатление на старую, все еще камерную Москву производили и «голуборозники» своим «громким московским говором» с «особливыми словечками», «манерой при ходьбе стучать каблуками», «эпатанными галстухами», «цветными жилетами» и «непримиримостью в мнениях и суждениях»: «первое впечатление было очень гуртовое»[21]. Одним словом, молодые символисты с азартным упорством «держали образ»: «Желаю бордовые перчатки и зеленые башмаки»[22]. На рубеже столетий декадентство отождествлялось прежде всего с символизмом, с чем-то непонятным и вычурным, что скорее свидетельствовало о страхе перед новым образным строем искусства, отражавшим реальность душевной жизни, чем о подлинном характере творчества художников.


Для символистов, обладавших поэтическим складом мировосприятия, то есть особенной чуткостью к «четвертому измерению» инобытия, доминантной задачей стала попытка на ассоциативном уровне передать в художественном образе настроение, внутреннюю эмоциональную вибрацию, пробуждающую жизнь воображения. Подобное отношение к искусству дало оригинальный терминологический виток в области русской критической мысли эпохи модерна, предложившей собственное название для русского варианта символизма — эмоционализм[23]. В России конца 1890-х годов символизм величали по-разному — от «мистического интимизма»[24], лирического «сенсуализма»[25] до «эмбрионизма»[26] и «супа астральных бацилл»[27]; причем зачастую символизм смешивали не только с декадентством и упадничеством, но и с импрессионизмом. В декорациях фона, на котором работали голуборозовцы, конечно, многое было навеяно модой. «Высокое искусство» (Grand Art) становилось навязчивой идеей времени. Эстетика вытесняла реальность, придавая самым обычным жестам символическое значение. Неслучайно Андрей Белый писал: «Быт утонченной буржуазии этого времени — “Декамерон”!»[28]
Однако грубый карнавал жизни, лишенный философской утонченности эпикуреизм, хотя и касались (а порой — обжигали) своими искрами художников, в частности голуборозовцев, любивших вести дискуссии об искусстве в кафе «Грек» на Тверском бульваре или в ресторане «Богемия» на Неглинной улице, носил бытовой характер и не был тем источником, который давал силы и глубину подлинным творческим наитиям, развивавшимся в уединении и отдалении от подобных врéменных бурь.
Примечательно, что сами голуборозовцы «современным Вавилоном» называли Париж, а не Москву, в которую Николай Феофилактов, например, «бежал» из культурной столицы Belle Époque раньше запланированного срока, настойчиво ощутив одно желание: «хочется только работать и работать»[29]. Схожие впечатления переживали Павел Кузнецов и Сергей Судейкин, находившиеся в Париже в качестве экспонентов русской выставки, устроенной Сергеем Дягилевым в 1906 году[30]. Судейкин, например, писал Арапову в Москву: «Я выставляю Дэкада’NS и на успех имею ша’NS. <…> это не только Вавилон (о нем мы мало знаем), а это настоящий упадочный Рим, где все очаровательно и все не выдерживает никакого критического анализа»[31] (казалось бы, «Рим периода упадка» — тоже не близкая по времени эпоха…).
Несмотря на «сквозняк впечатлений»[32], увлекавший молодых художников, свои мечты в искусстве московские символисты круга «Голубой Розы» развивали в идеалистическом плане. Подлинность подобного отношения к искусству как субстанционально самостоятельной части душевной жизни подтверждает и тот факт, что большинство художников «Голубой Розы» и в поздний период работы сохранили творческие принципы, заложенные символизмом, хотя, конечно, они претерпели неизбежную эволюцию и разную степень отхода от волновавших в молодости тем.


Само название выставки «Голубая Роза», предположительно данное Валерием Брюсовым, восходит к романтическим истокам мечты о «голубом цветке», символизировавшем в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (1799–1800) тоску по Золотому веку, по неведомому идеалу, вечно влекущему и вечно недостижимому. Не исключена вероятность возникновения названия и под влиянием одноименного стихотворения Константина Бальмонта, опубликованного в 1903 году в седьмом сборнике поэта «Только любовь. Семицветник». Серафически хрупкий образный мир «Голубой Розы», возникшей на страницах второго раздела книги под названием «Очертания снов», преисполнен той же прозрачной, но ритмически звучной гармонии, что и символистские идиллии из цветущих облачных вихрей художников-символистов:
Широки лепестки из блистающих вод,
Голубая мечта, в них качаясь, живет.
Под ветрами встает цветовая игра,
Принимая налет серебра.
Для кого расцвела ты, красавица вод?
Этой розы никто никогда не сорвет.
В водяной лепесток — лишь глядится живой,
Этой розе дивясь мировой[33].
Именно этим строкам Бальмонта вторит нежный абрис цветка, который неувядающим символом нового творческого направления появился на обложке каталога выставки «Голубая Роза», соединив поэтические сны о Вечности с визуальным мифом о нездешних садах грезовидцев-художников. Эскиз чарующе лаконичной розы, ставшей символом дематерилизующейся природы, исполнил Николай Сапунов[34]. В настоящее время вопрос о том, когда и у кого зародился пластический мотив цветка, стилистически близкий к известному образу на обложке, в 1907 году или чуть ранее — около 1905 года, вновь обрел свою актуальность. В 2021 году в процессе изучения творчества художников близких к мастерам «Голубой Розы» удалось обнаружить новый иконографический документ, позволяющий задуматься о степени влияния художников-символистов более старшего поколения на младшее. Разбирая в архивных фондах эскизы Виктора Дмитриевича Замирайло в связи с реставрационными работами в крымской усадьбе «Новый Кучук-Кой», в которой с 1907 года работали Павел Кузнецов, Петр Уткин и Александр Матвеев, открылась еще одна ипостась визуального бытия «Голубой Розы». Среди вариантов по декорированию экстерьеров дома, созданных Замирайло между 1904–1907 годами (вероятнее всего, около 1905 года), особое внимание привлек вариативно стилизованный образ фиолетово-голубой розы в акварельном эскизе фарфорового пола южной террасы (ОР ГРМ. Ф. 59. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 5), пластически и эстетически созвучный тому гармоничному цветочному символу, который в 1907 году появится на обложке каталога выставки «Голубая Роза», исполненной по эскизу Николая Сапунова.
Сама модуляция цвета розы от алой (1-я выставка), реально существующей, к недостижимой голубой, уже символична. Естественная палитра смыслов, которые кроются за образом алой розы, изменением цвета преобразилась из земной, имеющей за собой «длинное человеческое прошлое», в небесную. Еще у Гете в «Теории цвета» голубизна «в своей высшей чистоте» уподобляется «прелестному Ничто», а в «Фаусте» она становится явленной тайной Вечной женственности — темы, имевшей большое значение для символистов, особенно саратовцев Виктора Борисова-Мусатова и Павла Кузнецова, раскрывших ее в своем искусстве как на уровне Орфического идеала «недостижимой возлюбленной», так и в контексте воплощения идеи «Maternité» («материнства»)[35].


Выставочное пространство «Голубой Розы» также стало подлинным садом нового искусства, «собравшим перлы, избранников из декадентов»[36], — как писали консервативно настроенные критики. Особым настроением веяло не только с холстов, но и от атмосферы выставки в целом. Помимо живописных цветов, скрывавшихся за прозрачными брызгами фонтанов Павла Кузнецова и «снов» Петра Уткина, а также в сказочных садах Николая Милиоти и «Телемах» Василия Милиоти, выставку украшали реальные цветы. Лилии и гиацинты, расставленные в горшках, разыгрывали ароматную симфонию запахов, которые вторили приглушенным тонам полотен, развешанным по стенам, задрапированным голубой тканью. Громадные астры в петлицах художников, сидевших рядом со своими произведениями, подчеркивали артистическое единство мастеров и их творений. Впечатление было настолько целостным, что критик Сергей Маковский писал: «Когда войдешь в эту маленькую часовню, декорированную с умением строгого вкуса, сразу чувствуешь, что “Голубая Роза” не только “цветок теплицы”, но весенний цветок мистической любви…»[37]
Примечательно, что одним из первых аналитиков, отметивших потенциально новое значение «Голубой Розы» не только в качестве выставочного феномена, но и в смысле осознанного художественного течения в русском изобразительном искусстве, стал один из участников экспозиции Василий Дмитриевич Милиоти, который среди мастеров «Голубой Розы» претендовал на воплощение того типа художника-искусствоведа, художника-публициста, к которому можно отнести А. Н. Бенуа, И. Э. Грабаря, Н. К. Рериха. Сделанное Милиоти наблюдение имеет важное значение для понимания внутренней программы, существовавшей у русских художников в области осознания идей символизма на уровне теоретического осмысления, которое нашло малое отражение в вербальных источниках. В статье «О приемах художественной критики», опубликованной в пятом номере «Золотого руна» за 1907 год, Милиоти возражал на критику Игоря Грабаря, высказанную последним в адрес целого ряда участников выставки «Голубая Роза»[38]: «За мелочными придирчивыми замечаниями, то неудачно аналитическими, то пристрастно-вкусовыми, автор совершенно упускает задачи серьезной критики: выяснив те влияния, под которыми сложилось данное явление, и выделив наиболее типические его черты, постараться найти место его среди других явлений и предугадать пути его. “Голубая Роза” в данном случае представляет исключительный интерес: неся в себе остатки протеста против все нивелирующей школы, она одновременно соединила в себе отзвуки крупных мусатовских и врубелевских обобщений с ядом “салонности” “Мира искусства” <…> Чувствуется жажда возрождения “изнутри”, стремление к большим творческим задачам, которые одни выведут искусство из душного тупика салонной “красивости”: здесь большая задача для большой критики»[39]. Уже в этой статье 1907 года ощутимо намечены те тезисы о возврате к религиозной глубине переживания идеи искусства, которые Милиоти разовьет в программной для эстетических воззрений символистов 1900-х годов статье «Забытые заветы»[40].
Присущая художникам «Голубой Розы» мечта о пространстве, совершенном в своей монументальной гармонии, в котором средствами искусства был бы воссоздан идеальный образ утерянного на земле рая, после проведенной в 1907 году выставки нашла новый тип взаимодействия с реальностью. Следивший за современными художественными тенденциями в искусстве коллекционер Яков Евгеньевич Жуковский, двоюродный брат певицы Надежды Ивановны Забелы-Врубель (жены художника М. А. Врубеля), под впечатлением от московской выставки привлек Павла Кузнецова, Петра Уткина и Александра Матвеева к работам в своей крымской усадьбе, формированию образного мира которой уже не один год посвящал свои труды и дни упомянутый выше Виктор Замирайло. В результате подобного шага Якова Жуковского архитектурно-парковый ансамбль «Новый Кучук-Кой»[41] — уникальный пример развития стилистических идей модерна, ставший не метафорическим, а реально существующим садом «Голубой Розы», — внес еще одну, южную, координату в творческую ойкумену голоуборозовского символизма, причем, в его саратовском изводе.

Рассмотрев подробно синтетическое явление «Голубой Розы», имевшей московские и саратовские корни, вернемся вновь к вопросу, поставленному в начале очерка: что же следует понимать под феноменом «саратовской школы» на рубеже XIX–XX столетий? Прежде всего, нужно иметь в виду, что «саратовская школа» того периода — это не методологическая образовательная система, а некая артистически цельная общность, включившая в себя разных по индивидуальностям художников, которые не просто родились в Саратовской губернии во второй половине XIX века и вошли в искусство молодой когортой на рубеже столетий, но артикулировали в искусстве новые задачи, направленные на модернизацию пластического языка в области выражения лирико-визуальных настроений. Причем в основе этих настроений лежал синтез общеевропейских новаторских художественных тенденций, развивавшихся под влиянием орнаментально-декоративной логики стиля модерн, с ностальгически радостным восприятием реального природного мотива. Иными словами, с точки зрения глобальной истории искусства «саратовская школа» — это некий культурно-исторический «ген», энергетически заряженное творчеством зерно, взращенное пейзажным волжским ареалом, из которого развился пассионарный импульс той эстетической активности, что в значительной степени сформировала новую визуальную поэтику «Голубой Розы», став частью образной системы московского символизма.
Конечно, не только выставка «Голубая Роза» и воспринявшая ее название вторая волна символистского течения в русском изобразительном искусстве связаны с «саратовской школой». Ее пассионарная творческая общность, вышедшая за границы Саратова, продолжила развиваться и в постсимволистскую эпоху в Москве и Ленинграде, дав в 1920–1930-е годы новые формы выражения эмоциональным переживаниям в творческой практике и выставочной деятельности группы «13» (1929–1931, Москва), пятеро членов которой были связаны с Саратовом, а также в организации объединения «4 искусства» (1924–1931, выставки в Москве и Ленинграде), председателем которого был избран Павел Кузнецов. Название объединения «4 искусства» отражало идею синтеза искусств — архитектуры, живописи, графики и скульптуры: «Благодаря синтезу этих видов искусств получается ансамбль единой художественной мысли»[42]. Немалую роль в достижении эффекта целостного художественного пространства, стержнем которого Кузнецов считал монументальную живопись, «развивающую, расширяющую и углубляющую архитектурное произведение», играла музыка, связывавшая эмоциональными красками пластические формы: «Музыка стала как бы пятым искусством в комплексе “4 искусств”»[43].
В эстетической программе объединения естественным образом нашли новое конструктивное преломление те заветные мечты о рождении тотально гармоничного произведения искусства, которые пульсировали во внутреннем опыте художников на глубине их символистской молодости, прошедшей под стилистической сенью модерна с его любимой концепцией синтеза искусств — Gesamtkunstwerk (гезамткунстверк). Однако вскоре тотальность иного идеологического рода окончательно перешагнула черту иллюзорности постановлением: 23 апреля 1932 года на волне борьбы с формализмом постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» были упразднены все творческие объединения и создан Союз художников СССР. Нельзя не отметить, что процесс девальвации ценностных достижений ранней фазы развития русского модернизма в его лирико-поэтическом формате начался намного раньше. В период политизированного общественного восприятия искусства большинство произведений художников-символистов было причислено к категории «грехов эпохи модерна»[44], и повзрослевшим саратовцам пришлось выражать свою творческую память о детстве непосредственно в своем искусстве (без лишних слов), что возможно на внутреннем уровне было им и не чуждо: «Все слова тебе мешают. / Чем ты поражаешь?»[45], — писал Райнер Мария Рильке, поэзию и художественно-критические взгляды которого знали и любили в России начала ХХ века.


Нельзя не увидеть грустной исторической иронии в том стечении обстоятельств, при котором идеологически несправедливые оценки нового культурного «Ренессанса» (именно так искусство модерна характеризовали Андрей Белый, Николай Бердяев, Федор Степун, Михаил Врубель) набирали силу на фоне последнего всплеска интереса к нему. В 1925 году, одновременно с написанием процитированных выше строк об эстетических «грехах» модерна, в залах Третьяковской галереи состоялась выставка «Мастера “Голубой Розы”»[46] — экспозиция, во многом заложившая первый концептуальный камень в историю дальнейшего научно-исследовательского осмысления голуборозовского течения в русском искусстве благодаря обозначению истоков. Одним из главных героев выставки ретроспективно стал саратовский мечтатель-одиночка Виктор Борисов-Мусатов, гений лирического воображения которого вдохновлял художников «Голубой Розы» до конца их дней: «Не нужно монументов. Только роза / пусть в честь него цветет из года в год: / и в ней Орфей; его метаморфоза / и там и тут…»[47]
Подлинные поэтические заветы никогда не исчезают из полифонической памяти культуры. В горне ХХ века, сменившего по ходу своего движения рукотворную стилистку майоликовых печей на заводские котлы, символизм, с его неустанными поисками Идеала, действительно мог казаться устаревшим призраком, несвоевременной мечтательной абстракцией, отрицание реальности которой началось уже внутри самого модернизма, вступившего в авангардную и поставангардную стадии (безудержно порывистые в своих творческих амбициях)[48]. И все же, несмотря на интенсивно-дерзкий диалог революционной эстетики с невесомыми фантазиями модерна, художники «Голубой Розы» не только вызывали протест, а спустя некоторое время в лучшем случае замалчивались и забывались, но и притягивали: искусство оказалось способным шагнуть за пределы локальной ситуации, заняв ключевую позицию в контексте выставочной и исследовательской практики XXI века. Внутренняя память о первых визуально-поэтических опытах русского символизма, метафорическим образом которого стали ало-голубые лепестки неувядающих цветов, и самим лирикам-модернистам[49] позволяла жить в изменившихся социальных условиях с той степенью предельной верности индивидуальной свободе, которая порой казалась невозможной в условиях тоталитарной идеологии. Тем не менее многим героям настоящей выставки — Павлу Кузнецову, Петру Уткину, Александру Матвееву (потенциально), Валентину Юстицкому, Алексею Карёву и многим другим — было, что отстаивать в советские годы: в реалистических по сюжетно-жанровым канонам пейзажах, натюрмортах, портретах они сохраняли поэзию незримого начала, преображающего в ритмические созвучия статичный предметный мир; уберегали тот внутренний слух, который индивидуально жил в них как в художниках и развивался в интуитивном диалоге личности со стихийной фактурой самого изобразительного искусства.
Примечания
- ^ «Алая Роза» (1904, Саратов; написание названия приведено в статье в исторически аутентичном варианте, в современном научном контексте второе слово иногда пишут с маленькой буквы — «Алая роза») — выставка, организованная группой единомышленников из учеников Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) во главе с П. В. Кузнецовым и П. С. Уткиным. Представляла собой попытку первого программного выступления нового поколения символистов, избравших в качестве своих творческих провозвестников В. Э. Борисова-Мусатова и М. А. Врубеля, работы которых участвовали в выставке: (В. Э. Борисов-Мусатов был представлен тремя работами: «Розы», «Сирень», «Эскиз»; М. А. Врубель — одной — «Тамара»). Также на выставке была представлена майолика Керамико-художественной гончарной мастерской «Абрамцево», что обнаруживало непрерывность развития стиля модерн на уровне артистического диалога мастеров-новаторов разных возрастов. Несмотря на резонансный и в целом успешный с точки зрения поставленных задач эксперимент, не во всех произведениях молодых художников эстетическая задача, вдохновлявшая их, была воплощена равноценно. Наряду с декоративно-стилизованными в новом пластическом духе образами-символами на выставке присутствовали этюды чисто натурного характера. Нельзя не отметить, что в исторической перспективе это лишь подчеркнуло специфику русского символизма, предельная поэтизация сюжета в котором (вплоть до полной его потери) всегда опиралась на импульсы реального диалога с природой. Выставка «Алая Роза» открылась 27 апреля 1904 года в Колонном зале саратовского Дворянского собрания, проработав вплоть до конца июня. Среди ее экспонентов было представлено основное ядро художников, напрямую связанных с символистской концепцией выставки «Голубая Роза», открывшейся в Москве через три года. Из семнадцати участников выставки «Алая Роза» к группе будущих голуборозовцев принадлежали восемь человек: А. А. Арапов, И. А. Кнабе, П. В. Кузнецов, Н. Н. Сапунов, М. С. Сарьян, С. Ю. Судейкин, П. С. Уткин, Н. П. Феофилактов.
- ^ «Голубая Роза» (научно допустимый вариант — «Голубая роза», в статье использован исторически аутентичный образец написания слов с прописных букв; 1907, Москва) — группа московских художников-символистов, среди которых были уроженцы Саратова, получившая условное название после одноименной выставки, организованной журналом «Золотое руно» (1906–1909) на средства его издателя Н. П. Рябушинского. Выставка была открыта с 18 марта по 29 апреля 1907 года на втором этаже дома фабриканта М. С. Кузнецова на Мясницкой улице (арх. Ф. О. Шехтель, 1898–1903) и представила творчество шестнадцати экспонентов — А. А. Арапова (род. в Москве), П. П. Бромирского (род. в местечке Устилуг на Волыни), В. П. Дриттенпрейса (род. в Москве), И. А. Кнабе (род. в Москве), Н. П. Крымова (род. в Москве), П. В. Кузнецова (род. в Саратове), А. Т. Матвеева (род. в Саратове), В. Д. и Н. Д. Милиоти (род. в Москве), Н. П. Рябушинского (род. в Москве), Н. Н. Сапунова (род. в Москве), М. С. Сарьяна (род. в Новой Нахичевани близ Ростова-на-Дону), С. Ю. Судейкина (род. в Санкт-Петербурге), П. С. Уткина (род. в Тамбове, в 1878 году переехал в Саратов), Н. П. Феофилактова (род. в Москве), А. В. Фонвизина (род. в Риге). Эстетический генезис группы выходит за рамки одного года и обозначенного круга участников (в контексте «Голубой Розы» рассматривают творчество В. И. Денисова и отчасти волжанина К. С. Петрова-Водкина, который с 1897 года развивался в общем для группы голуборозовцев московском художественном кругу, разделяя новаторские поиски своих товарищей по МУЖВЗ). Голуборозовское течение ассоциируется со «второй волной» русского символизма 1900-х годов («первую волну» русского символизма в изобразительном искусстве связывают с художниками петербургской группы «Мир искусства», начавшими свою программную выставочную и издательскую деятельность в 1898 году). Из научной литературы по данному вопросу более подробно см.: Bowlt J. E. Russian Symbolism and the «Blue Rose» Movement // Slavonic & East European Review. (London). Vol. II. № 123. 1973. Р. 161–181; Гофман И. М. Голубая Роза. М.: Вагриус, 2000. Флорковская А. К. Творческий метод художников «Голубой Розы». К вопросу о школе Борисова-Мусатова // В. Э. Борисов-Мусатов и «саратовская школа». Материалы седьмых Боголюбовских чтений, посвященных 130-летию со дня рождения В. Э. Борисова-Мусатова. Саратов. 11–14 апреля 2000 года. Саратов: Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева, 2001. С. 112–121; Киселев М. Ф. Голубая роза. М.: БуксМАрт, 2013; Давыдова О. С. Иконография модерна. Образы садов и парков в творчестве художников русского символизма. М.: БуксМАрт, 2014; Давыдова О. С. «Кентаврические» грезы, или «Голубые розы» московского декаданса // Experiment: A Journal of Russian Culture / Эксперимент: Журнал русской культуры (Русская графика начала ХХ века. Часть I / The Graphic Arts in Early 20th Century. Part 1). Leiden, Boston: Brill, Ferdinand Schöningh. 2020. Vol. 26. Pp. 139–188; Давыдова О. С. «Голубая роза»: XХI век. Московский символизм в свете новейших исследований // Academia. 2022. № 3. C. 259–275. URL: https://academia.rah.ru/magazines/2022/3/golubaya-roza-xkhi-vek-moskovskiy-simvolizm-v-svete-noveyshikh-issledovaniy?ysclid=mgqqiqb4g8323673362.
- ^ Верхарн Э. Рембрандт (1905) // Верхарн Э. Драмы и проза. М.: Художественная литература, 1936. С. 209.
- ^ Борисов-Мусатов В.Э. Цит. по: Станюкович В. К. Монография о художнике В. Э. Борисове-Мусатове. [На 156 л.] // ОР ГРМ. Ф. 27. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 75.
- ^ Борисов-Мусатов В. Э. Письмо к Л. П. Захаровой. 22 июня [1899] // СГХМ им. А. Н. Радищева. ОХАМ. НИА. ЛФ. 2. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 14).
- ^ Кузнецов П. В. Письмо к В. Э. Борисову-Мусатову. [1905] // ОР ГРМ Ф.27. Оп. 1 Ед. хр. 57. Л. 2 об.
- ^ Милиоти В. Д. Воспоминания о В. Э. Борисове-Мусатове // ОР ГТГ. Ф. 80. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1 об.
- ^ Белый А. Воспоминания: В 3-х т. М.: Художественная литература, 1990. Кн. 3. Между двух революций. С. 210. Далее: Белый А. Между двух революций.
- ^ Кузнецов П. В. Письмо к В.Э. Борисову-Мусатову. [1905] // ОР ГРМ Ф.27. Оп. 1 Ед. хр. 57. Л. 2.
- ^ Кузнецов П. В. Письмо к В. Э. Борисову-Мусатову. [1905] // ОР ГРМ Ф.27. Оп. 1 Ед. хр. 57. Л. 1 об.
- ^ Шёнберг А. Письмо к В. В. Кандинскому. 24.01.1911 // Василий Кандинский. Арнольд Шёнберг. Переписка 1911–1936. М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2017. С. 28.
- ^ Кузнецов П. В. Письмо к В. Э. Борисову-Мусатову. [1905] // ОР ГРМ Ф.27. Оп. 1 Ед. хр. 57. Л. 2.
- ^ Подробнее см.: В. Э. Борисов-Мустов и «саратовская школа»: Материалы седьмых Боголюбовских чтений, посвященных 130-летию со дня рождения В. Э. Борисова-Мусатова. Саратов, 11–14 апреля 2000 года. Саратов: Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева, 2001. Далее: В. Э. Борисов-Мустов и «саратовская школа».
- ^ Арапов А. А. Автобиографический очерк // РГАЛИ. Ф. 2350. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 5–6.
- ^ В этом контексте нельзя не вспомнить несколько комичный эпизод, связанный с реакцией Саввы Мамонтова на радикально «декадентский» стиль Павла Кузнецова, который также приводит в своем очерке Анатолий Арапов: «У Мамонтова на Бутырских Печах была керамическая мастерская, куда мы иногда заезжали. В ней было у него много керамических работ Врубеля. Вспоминается ссора П. Кузнецова с С. И. Мамонтовым. П. Кузнецов как-то показал свои вещи, где были изображены амуры. С. И., увидев их, сказал: “Это, братец, у тебя не амуры, а какие-то бритые помещики”. П. Кузнецов вспылил и нагрубил: “Каждый старикашка будет меня учить”. “Вон отсюда, Пашка!”, — вспылил старик. Пашка ушел, и только недели через две Савва Иванович с ним вновь помирился. Старик его очень ценил» (Арапов А. А. Автобиографический очерк // РГАЛИ. Ф. 2350. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 6).
- ^ Петров-Водкин К. С. Пространство Эвклида // Петров-Водкин К. С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л.: Искусство, 1970. С. 338.
- ^ Белый А. Сочинения. Серебряный голубь. М.: Лаком-книга, И. В. Габестро, 2001. С. 74.
- ^ Подробнее о графике Серебряного века см. специальный выпуск журнала «Experiment / Эксперимент»: Experiment: A Journal of Russian Culture / Эксперимент: Журнал русской культуры (Русская графика начала ХХ века. Часть I / The Graphic Arts in Early 20th Century. Part 1). Leiden, Boston: Brill, Ferdinand Schöningh. 2020. Vol. 26.
- ^ 19 В частности см.: Гофман И. М. «Голубая Роза» как воплощение понятия «саратовская школа» в русском искусстве // В. Э. Борисов-Мустов и «саратовская школа». С. 20–31.
- ^ Ростиславов А. Выставка Московского товарищества художников // Мир искусства. 1904. № 1. С. 11.
- ^ Кузмин М. Воспоминания о Н. Н. Сапунове // Н. Сапунов: Стихи, воспоминания, характеристики. М., 1916. С. 46, 47.
- ^ Джойс Д. Дублинцы. Улисс: новеллы, роман. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. С. 228.
- ^ Б. Л. (Липкин Б. Н.). Эмоционализм в живописи // Искусство. 1905. № 2. С. 56–57.
- ^ Гофман В. О тайнах формы // Искусство. 1905. № 4. С. 36–37.
- ^ Аратов (Абрамович Н. Я.). Сенсуализм в новой поэзии // Искусство. 1905. № 2. С. 35–41.
- ^ Меньшиков М. Отклики // Неделя. 1899. № 12. С. 415.
- ^ Белый А. Воспоминания: В 3-х т. М.: Худож. лит., 1990. Кн. 2. Начало века. С. 415. Далее: Белый А. Начало века.
- ^ Белый А. Между двух революций. С. 201.
- ^ Феофилактов Н. П. Письмо к А. А. Арапову. 18 октября 1908 // РГАЛИ. Ф. 2350. Оп. 2. Ед. хр. 60. Л. 6–7 об.
- ^ «Русская художественная выставка» при Осеннем салоне (Exposition de l’art russe, Salon d’automne) проходила в Париже с 2/15 [дата открытия варьируется в диапазоне нескольких дней] октября по 11/24 ноября 1906 года. В искусствоведении также бытует название «Два века русской живописи и скульптуры», несмотря на более широкий хронологический диапазон показанных произведений.
- ^ Судейкин С. Ю. Письмо к А. А. Арапову. [10-е (?) августа 1906] // РГАЛИ. Ф. 2350. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 6 об.
- ^ Белый А. Начало века. С. 293.
- ^ Бальмонт К. Голубая роза // Бальмонт К. Только любовь. Семицветник. М.: Гриф, 1903. С. 50.
- ^ Выставка картин «Голубая Роза»: [Каталог] / Обл. Н. Сапунова. [М.]: Изд. журн. «Золотое Руно», [1907].
- ^ Интересно отметить, что Павел Кузнецов, немного простодушный и упрямый, желая проникнуть в тайну жизни, в 1905 году устроился акушером в Родильный приют на Сретенке. За физической реальностью он хотел найти истоки вечности. Такой поступок не противоречит символической природе полотен художника. Во-первых, русский символизм, как писал Вячеслав Иванов, по преимуществу имеет реалистическую природу. Во-вторых, в своих лучших художественных проявлениях символизм Кузнецова исключительно художественного, а не литературного свойства. На его символистских полотнах 1900-х годов разворачиваются почти бесструктурные воздушные сады, невнятные кущи с ликами-листьями, повисающими на ветвях. В искусствоведческой литературе этот этап символистских исканий в творчестве Кузнецова называют «периодом нерожденных младенцев» (Эфрос А. Кузнецов // Эфрос А. Профили. М., 1930 С. 92).
- ^ Боголюбов А.А. Письмо к И. Е. Цветкову // ОР ГТГ. Ф.14/10. Ед. хр. 8. Л. 13.
- ^ Маковский С. Голубая Роза // Золотое руно. 1907. № 5. С. 25.
- ^ См.: Грабарь И. Голубая роза // Весы. 1907. № 5. С. 93–96.
- ^ В. М-ти. [Милиоти В. Д.]. О приемах художественной критики // Золотое руно. 1907. № 5. С. 77.
- ^ Милиоти В. Забытые заветы // Золотое руно. 1909. № 4. С. III–VI.
- ^ Архитектурно-парковый ансамбль «Новый Кучук-Кой», возникший на участке земли, приобретенном в 1901 году петербуржцем Я. Е. Жуковским на Южном берегу Крыма в Симеизе, был сформирован в два строительных этапа (1903–1907; 1907–1915), отмечающих длительный процесс стилистических поисков в формировании комплекса. Образная концепция «Нового Кучук-Коя» была сформирована в результате творческого взаимодействия ярчайших представителей русского модернизма в его символистском ключе. В разные периоды над ансамблем работали такие мастера, как В. Д. Замирайло, М. А. Врубель, Е. Е. Лансере, С. В. Малютин, А. Л. Обер, художники московской символистской группы «Голубая Роза» — П. В. Кузнецов, П. С. Уткин, Н. П. Феофилактов, близкий к ним скульптор А. Т. Матвеев, пластические образы которого связали ландшафтное пространство парка единым поэтическим настроением. С 2021 года в «Новом Кучук-Кое» ведутся научно-исследовательские (с участием автора данной статьи, сформировавшего полную архивно-документальную базу для реализации проекта) и реставрационные работы.
- ^ Кузнецов П. «4 искусства» // РГАЛИ. Ф. 2714. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 49.
- ^ Там же. Л. 53.
- ^ Евдокимов И. М. А. Врубель. Монография // РГАЛИ. Ф. 1246. Оп. 1. Ед. хр. 90. Л. 77.
- ^ Рильке Р. М. Розы (XVI) // Рильке Р. М. Сады. Поздние стихотворения / Пер. с нем. и фр. В. Микушевича. М.: Время, 2003. С. 230.
- ^ Мастера «Голубой Розы». Каталог выставки / Вступ. ст. В. Мидлера. М.: Государственная Третьяковская галерея, 1925.
- ^ Рильке Р. М. Сонеты к Орфею (V) // Рильке Р. М. Указ. соч. С. 104.
- ^ Сложной проблематике взаимодействия символизма и авангарда посвящен целый ряд научных изданий. См., например: Символизм в авангарде: [Сборник] / Отв. ред. Г. Ф. Коваленко. М.: Наука, 2003.
- ^ Большую часть художников-символистов круга «Голубой Розы» действительно можно назвать лириками модернизма, так как будучи внутренне связанными с романтической культурой XIX века, в своих пластических поисках они ориентировались на современные европейские художественные течения.