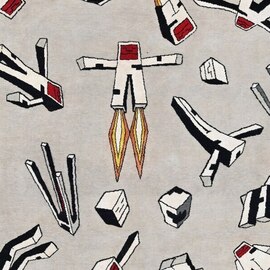Введение в институциональную историю искусства: академия, выставка, музей в Европе в Новое время
Вопреки расхожему мнению, история музеев современного искусства началась задолго до нью-йоркского MoMA. Идея институции, призванной показывать искусство своего времени, зародилась еще в Европе XIX века, когда академическая художественная система с ее жанровой иерархией сменилась системой «дилер — критик», в которой ценность произведения определяло уже не жюри Салона, а критики и рынок. Эта трансформация изменила само понятие «современного искусства» и музеи, его представлявшие: Люксембургский во Франции, Новую пинакотеку в Мюнхене и Национальную галерею в Берлине. О первом из них можно прочесть в главе «Вторая музейная волна: музеи ныне живущих (современных) художников» книги Андрея Шабанова «Введение в институциональную историю искусства», фрагмент из которой мы публикуем с любезного разрешения издательства Европейского университета.
 Люксембургский музей. Париж, 1900. Открытка. Фрагмент. Источник: hippostcard.com
Люксембургский музей. Париж, 1900. Открытка. Фрагмент. Источник: hippostcard.com
All art has been contemporary
(Любое искусство было современным)
Неоновая инсталляция итальянского
художника Маурицио Наннуччи. 1999
С открытия в 1818 году в Париже Люксембургского музея, посвященного ныне живущим художникам (Le Musée Royal du Luxembourg, destiné aux artistes vivants), один за другим в Европе начинают возникать специализированные музеи новейшего искусства. Практически все авторы обзорных монографий, в том числе Базен и Помян, вскользь упоминают их. Уже у Базена обозначен общий контур второй музейной волны в Европе в XIX веке: Люксембургский музей (1818), Новая пинакотека (1853), Национальная галерея в Берлине (1873) и галерея Тейт в Лондоне (1897). Но только Лоренто недавно обратился к сравнительной истории становления этой формы музея. Отсутствие академических работ, посвященных данному сюжету, очевидно способствовало расхожему и ошибочному представлению о том, что музеи современного искусства — явление относительно новое, а открытый в Нью-Йорке в 1929 году MoMA (Museum of Modern Art) — его чуть ли не самое раннее яркое воплощение. Последний действительно стал моделью для музеев современного искусства по всему миру в XX веке. Однако он не возник в пустоте, а был отголоском второй музейной волны, которую за столетие до этого в Европе спровоцировал Люксембургский музей.
Лоренто указал на одну из ключевых интриг первых музеев современного искусства — коллизию между национальным и современным в формировании коллекции. Но он едва ли раскрыл суть этой коллизии, отчетливо проявившейся на рубеже XIX–XX веков. Я вижу ее следующим образом. В отличие, скажем, от изначально космополитичных собраний старых мастеров, все ранние музеи современного искусства концентрировались на местных ныне живущих художниках. По этой причине такие музеи обычно воспринимались как национальные художественные музеи; и чем дольше они существовали, тем больше они становились таковыми в глазах современников. Их принцип собирательства по национальному признаку существенно не менялся в XIX столетии и не отличался от страны к стране. Но в то же время эти музеи были музеями современного искусства, а это понятие как раз заметно эволюционировало на протяжении того же века, в том числе под воздействием международных художественных влияний и факторов. Именно это, на мой взгляд, сделало коллизию по-настоящему динамичной и достойной внимания. Она показывала, что:
а) некоторые национальные музеи современного искусства были более прогрессивными, чем другие;
б) часто коллизия была не столько между национальным и современным, сколько между разными понятиями современного;
в) изменившееся представление о современном могло вдохновить на переосмысление национального канона.

Поэтому далее нас будет интересовать то, как эволюционировало понятие «современное искусство», на примере первых трех музеев, специально созданных для его демонстрации: Люксембургского, Новой пинакотеки и берлинской Национальной галереи. Будучи самыми ранними и новаторскими, они отлично демонстрируют — и в этом состоит моя проблематизация означенной истории, — как со сменой академической системы (с ее эстетикой и жанровой иерархией с исторической картиной во главе) на систему «дилер — критик» (с ее модернистской искусствоведческой теорией) трансформировалось понятие и наполнение музея современного искусства. Другими словами, мы увидим, как развитие системы «дилер — критик» в итоге переосмыслило понятие музея современного искусства, которое прежде формировалось исключительно социальными, экономическими и эстетическими императивами академической системы. То есть это была во многом коллизия между традиционным академическим (в том числе национальным) и модернистским подходами в определении того, что такое современное искусство и как его показывать в официальном музейном пространстве. Не без конфликтов, компромиссов и потерь Национальная галерея в Берлине оказалась первой государственной музейной институцией, которая не только поддержала новое, модернистское понимание современного искусства, медленно интегрируясь в имманентную для него систему «дилер — критик», но и использовала это понимание для пересмотра национального канона современного искусства, сформированного в рамках академической системы. Монография Дженсена «Продвижение модернизма в Европе в эпоху Fin de siècle» служит важным контекстом и подспорьем для данной точки зрения. Автор всесторонне раскрывает, как дилерская торговля искусством, галерейные выставки, критические и искусствоведческие статьи и книги о модернистском искусстве (в первую очередь об импрессионизме) сначала в зачаточном виде возникли во Франции, но затем вышли на новый профессиональный уровень дискурса в немецкоязычном художественном мире рубежа XIX–XX веков. Таким образом, есть закономерность в том, почему самый первый музей ныне живущих художников возник во Франции и почему этот тип музея претерпел радикальную концептуальную трансформацию в немецкоязычном художественном мире, приобретя идентичность, которая позднее действительно нашла наиболее яркое воплощение в нью-йоркском MoMA.

Художественные, институциональные и политические факторы в равной степени благоприятствовали появлению именно во Франции самого первого музея новейшего искусства. На начало XIX века французская школа живописи сохраняла в Европе лидирующие позиции как наиболее новаторская и представительная, в силу чего современное искусство во многом являлось синонимом французского искусства. Институциональным выражением этого был парижский Салон, который стремительно становился главной регулярной выставкой современного искусства в западном мире. Преимущественно здесь в дальнейшем и закупались произведения для Люксембургского музея. Главной же причиной появления такого музея в конкретный исторический момент стало значительное опустошение Лувра в 1815 году. В рамках репарации Франция возвратила европейским державам многочисленные художественные шедевры, награбленные в ходе наполеоновских кампаний. Люксембургский музей должен был продемонстрировать миру способность современной Франции собственными силами создавать новые шедевры, подтверждающие превосходство l’école moderne de France. Все это происходило на фоне реставрации монархии и возвращения короля Людовика XVIII (1755–1824). Монарх согласился патронировать проект, который должен был символизировать преемственный, созидательный, прогрессивный и патриотичный характер дома Бурбонов. Так, первую экспозицию Люксембургского музея во многом составляли произведения из коллекции короля, а инаугурация музея прошла во вторую годовщину его возвращения — 24 апреля 1818 года. Дабы ничто не заслонило государственной значимости и международного резонанса события, в тот год даже не проводился Салон.
Название новый музей получил по месту своей первой прописки в Люксембургском дворце (Palais du Luxembourg), который он делил с Сенатом. Выбор локации, помимо прочего, был продиктован преемственностью: с 1750 по 1779 год тут располагался первый парижский публичный художественный музей с королевской коллекцией старых мастеров. В 1802 году здесь вновь открылась экспозиция произведений старых мастеров из аристократических коллекций. Это собрание затем переместили в Лувр, чтобы залатать бреши, образовавшиеся после репарации. Освободившиеся помещения Люксембургского дворца пустовали недолго и приняли экспозицию музея новейшего французского искусства, которая располагалась здесь почти 70 лет. По мере стремительного роста коллекции все более острым становился вопрос об отсутствии просторного и технически современного выставочного помещения. Проблема стала поводом для профессиональной и общественной критики, административных реформ и архитектурных проектов. Вопрос частично решился только в 1886 году, когда Сенат оплатил переезд музея в Оранжерею Люксембургского сада и пристройку к ней нового крыла, в которых экспозиция размещалась вплоть до 1937-го.
Но все эти сложности с нехваткой выставочных площадей едва ли кто-то мог предвидеть в 1818 году, поскольку первый в своем роде музей современного искусства задумывался как переходный (musée de passage). По крайней мере в теории, в Люксембургский музей должны были попадать лучшие из лучших произведений новейших французских художников. Уже с середины XIX века он формально перестал быть исключительно французским: здесь появился отдел с иностранными художниками, которые, впрочем, работали и выставлялись в Париже. Иногда произведения приобретались у частных владельцев, на посмертных распродажах, аукционах, что-то даже передавалось из Лувра, но основным источником пополнения и обновления экспозиции Люксембургского музея был Салон. (Со второй половины XIX века еще одним важным источником пополнения собрания становятся всемирные выставки.) Продолжительное время каталоги Люксембургского музея указывали, в каком Салоне куплено то или иное произведение. По замечанию Лоренто, произведения-кандидаты таким образом проходили по меньшей мере три фильтра: сначала жюри допускало их к участию в Салоне, потом они должны были быть отмечены призами, привлечь внимание публики и профессиональной критики, а после этого — пройти закупочную комиссию музея. Впрочем, основное испытание поступившим в музей работам еще только предстояло. Изначально Люксембургский музей задумывался в качестве обязательного, но все-таки промежуточного этапа на пути произведения в главный музей — Лувр. Другими словами, музей новейшего искусства рассматривался как преддверие музея старых мастеров, его подразделение (поэтому у них даже был общий инвентарный список). Для перехода произведения из первой институции во вторую существовало правило 10 лет: столько времени должно было пройти со смерти автора прежде, чем та или иная его работа попадала в Лувр. Стоит сразу оговориться, что правило 10 лет могло нарушаться на практике: исключения делались для маститых художников или резонансных произведений. Например, картины Жака Луи Давида (1748–1825), которые были главной достопримечательностью первоначальной экспозиции, почти сразу после смерти автора оказались в Лувре. Работы, не прошедшие испытание, перераспределялись из Люксембургского музея в другие публичные институты страны: провинциальные музеи, церкви или административные здания вроде префектур, городских советов и т. п. Это регулярное централизованное распределение художественных произведений по всей Франции стало целой индустрией; Даниэль Шерман описал ее в монументальной монографии «Достойные памятники» 1989 года.


Итак, Люксембургский музей рассматривался как финальный этап перед Страшным судом, на котором выбранное произведение (oeuvre de mérite) либо окончательно обретало бессмертие в Лувре, либо предавалось забвению в провинциальном музее. По этой причине музей новейшего искусства оброс такого рода эпитетами в профессиональной среде, как «музей-чистилище» (musée purgatoire), «проходное место» (lieu de passage), «переходный музей» (musée de passage), «прихожая Лувра» (antichambre du Louvre), «зал ожидания при Лувре» (la salle d’attent du Louvre) и т. п.
По крайней мере в первые десятилетия его существования экспозиция Люксембургского музея действительно обновлялась, произведения покидали его стены, освобождая место для новых. Об этом свидетельствует частота выхода каталогов, которые издавались почти каждый год, чтобы поспеть за изменениями в экспозиции. В этом отношении каталог Люксембургского музея продолжительное время напоминал каталог Салона, а про экспозицию музея могли даже сказать, что это «постоянный Салон». Во второй половине XIX века — из-за значительно возросшего потока произведений и вследствие всяких исключений — порог ожидания снизился до пяти лет, но один художник теперь мог быть представлен в экспозиции только тремя вещами. Несмотря на эти меры, коллекция музея продолжала увеличиваться, в то время как в экспозиции нередко встречались произведения давно умерших художников. Эта стагнация сказалась на каталогах, в том числе на снижении частоты их выхода и на их более музейном формате. Как и каталоги Лувра, они уже сопровождались введением в историю музея, библиографией его изданий, хронологическим списком когда-то представленных художников и собственно перечислением экспонатов в алфавитном порядке по авторам, для каждого из которых указывались профессиональные регалии (награды, академик, кавалер Почетного легиона и т. п.), формально подтверждающие статус признанного мастера в сфере современного искусства. Застой привел в результате к крупному обновлению экспозиции в 1874 году и в целом перманентно стимулировал обсуждения и попытки изменить промежуточный статус Люксембургского музея на стационарный, с фиксированными хронологическими рамками и адекватным для этих задач зданием. Исследователи резонно полагают, что эта идея могла быть подсказана открывшейся еще в 1853 году Новой пинакотекой в Мюнхене, о чем пойдет речь ниже. Новаторская концепция транзитного музея новейшего искусства, которая, казалось бы, лучше всего отвечает по определению временному статусу любого художественного произведения как современного, стала буксовать в переполненных помещениях музея. Разные логистические затруднения мешали реализации идеи на регулярной и долгосрочной основе. Но главной проблемой со временем стало то, что отбор вещей для музея все больше отвечал критериям одной профессиональной корпорации и мейнстрима и все меньше репрезентировал актуальный художественный процесс во всем его разнообразии и оригинальности.


Настал момент задаться вопросами: что понимал под современным искусством первый посвященный ему музей и кто это решал? С самого начала новаторская институция была напрямую связана с государством, поэтому не могла не отражать вкусы политического истеблишмента и Академии, отвечающих за развитие изящных искусств в стране. Первоначально произведения для музея закупались посредством цивильного листа (часть государственного бюджета, которой монарх мог распоряжаться по личному усмотрению) и формально являлись его собственностью. После революции 1848 года, когда Люксембургский musée royal стал musée national, закупками и управлением начали заниматься разные правительственные структуры. При этом кураторы музея очень продолжительное время никак не влияли на то, что попадало туда. Если учесть, что львиная доля произведений закупалась в Салоне, то Люксембургский музей неизбежно находился в его эстетическом фарватере и выбирал уже из того, что отобрало жюри, состоящее, как правило, из членов Академии и правительства.
Это сказалось на том, какие жанры были стабильно представлены в Люксембургском музее. В течение долгих лет его закупочная политика предсказуемо отражала принципы академической иерархии жанров: основное преимущество было у самого благородного жанра — живописи на мифологические, религиозные и исторические сюжеты, хотя экспозиция включала в себя также пейзажи и натюрморты. Со второй половины XIX века жанровая иерархия постепенно теряет нормативную силу — и, как прямое следствие успеха в Салоне, бытовая живопись тоже оказывается в Люксембургском музее. Кстати, музей не экспонировал портреты, даже официальных лиц, в силу их заказного, частного характера или чисто исторического значения.
В этих жанровых рамках в первые десятилетия работы Люксембургскому музею в целом удавалось достичь репрезентативного спектра современного художественного процесса. Как следует из инаугурационного каталога «Пояснение к произведениям живописи и скульптуры современной школы Франции, выставленным 24 апреля 1818 года в Люксембургском музее», экспозиция состояла примерно из 115 произведений. Из них два десятка приходилось на разного формата современную (и не очень) скульптуру — при этом половина скульптурных произведений выполняла декоративные функции. Основная задача по репрезентации современного художественного процесса отводилась живописи, представленной 74 полотнами. Точкой отсчета современной французской школы стал классицизм Давида и его учеников. Несмотря на статус политического эмигранта, Давид оказался наиболее весомо представленным мастером в первоначальной экспозиции. Она включала в себя такие хрестоматийные вещи, как «Клятва Горациев» (1784), «Ликторы приносят Бруту тела его сыновей» (1789), «Сабинянки, останавливающие сражение между римлянами и сабинянами» (1799) и «Леонид при Фермопилах» (1814). Школа Давида, в свою очередь, была представлена полотнами Анна-Луи Жироде (1767–1824), Франсуа Жерара (1770–1837), Пьера Герена (1774–1833), Антуана Гро (1771–1835) и Доминика Энгра. Выставленное тут же «Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление» (1808) Пьера Поля Прюдона (1758–1823) указывало вместе с тем уже на новые, романтические веяния.
Вскоре именно эта линия работ значительно расширилась благодаря молодым и ярким авторам. На короткое время в музее выставлялась нашумевшая картина «Плот “Медузы”» (1819) Теодора Жерико (1791–1824), купленная на посмертной распродаже в 1824 году и затем переданная в Лувр. Произведения Эжена Делакруа (1798–1863) «Ладья Данте» (1822) и «Резня на Хиосе» (1824) значатся в каталогах музея в годы, следующие за их успехами в Салоне. То есть главная интрига легендарного Салона 1824 года, с его противостоянием классицизма Энгра («Обет Людовика XIII») и романтизма Делакруа («Резня на Хиосе»), возможно, на короткое время продолжилась уже в стенах Люксембургского музея. Другая знаковая работа Делакруа «Свобода, ведущая народ» (1830) снималась и снова возвращалась в экспозицию в зависимости от политической обстановки. На начало 1830-х в музее уже представлен ключевой представитель исторического жанра Поль Деларош (1797–1856). И так далее. Исследовательница Мари-Клод Шодоннере демонстрирует: то, что Люксембургский музей в этот ранний период пытался отслеживать важные новаторские явления времени, заслуга во многом одного компетентного человека — графа Огюста де Форбена (1777–1841), возглавлявшего королевские музеи с 1816 года.



Со второй половины XIX века спектр современного искусства в Люксембургском музее сузился в консервативном ключе. И это несмотря на то, что экспозиция живописи не только обновлялась, но и постепенно увеличивалась в размерах: 117 экспонатов в 1823 году, 159 — в 1853-м, 188 — в 1863-м, а в 1875-м — 240. Сужение эстетического спектра становится особенно заметным после обновления музея в 1874 году, когда его стены покинули произведения крупных художников середины века (того же Делакруа). С этого момента Люксембургский музей начал в еще большей степени ассоциироваться с официальным искусством, салонным академизмом. Если указать его первый ряд, то это Уильям-Адольф Бугро (1825–1905), Александр Кабанель (1823–1889), Тома Кутюр (1815–1879), Жюль Делоне (1828–1891), Жан-Леон Жером (1824–1904), Эрнест Мейссонье (1815–1891) и Шарль Каролюс-Дюран (1838–1917). Имена художников второго и третьего ряда, представленных тогда в музее, сейчас известны только узкому кругу специалистов.
В то же время многие признанные сейчас представители новаторских художественных течений XIX века — барбизонской школы, пленэрной живописи, реализма, импрессионизма, постимпрессионизма и т. п. — появились в коллекции музея в лучшем случае с сильным опозданием и крайне дозированно. Например, барбизонская школа была представлена всего несколькими пейзажами Теодора Руссо (1812–1867) и Франсуа Добиньи (1817–1878), та же ситуация с работами Камиля Коро (1796–1875). Несколько произведений Жана-Франсуа Милле (1814–1875) и «Сенокос» (1877) Жюля Бастьен-Лепажа (1848–1884) были приобретены уже только на посмертных распродажах в 1875 и 1885 годах соответственно. Лидер реализма Гюстав Курбе (1819–1877) также не был при жизни представлен в Люксембургском музее. Его автопортрет «Мужчина с кожаным ремнем» (1846) музей приобрел лишь в 1881 году — среди других его вещей. Впрочем, такие программные произведения Курбе, как «Похороны в Орнане» (1850) и «Мастерская художника» (1855), минуя Люксембургский музей, сразу попали в Лувр: первая была принята государством в дар от наследников в 1881 году, вторая — благодаря публичной подписке (сбору средств) в 1920-м. Еще одно культовое произведение модернистской истории искусства — «Олимпия» (1863) Эдуара Мане — оказалось в Люксембургском музее (первое его произведение в этой институции) лишь в 1890-м и только благодаря публичной подписке, организованной годом ранее Клодом Моне (1840–1926). Показателен также резонансный скандал, связанный с завещанной государству представительной коллекцией импрессионистов (69 произведений) художника и собирателя Гюстава Кайботта (1848–1894). Академические круги и консервативная часть французского общества выступили против принятия коллекции в национальный музей. Один из ключевых аргументов правительства и музея в пользу частичного (38 произведений) принятия дара в 1896 году — искусствоведческий: импрессионисты уже были частью истории современного искусства. В это время Люксембургский музей уже несколько лет возглавлял прогрессивный куратор Леонс Бенедит (1859–1925), который настаивал на более репрезентативной коллекции и экспозиции современного художественного процесса. Его общая установка, однако, заключалась в том, чтобы импрессионисты и последующие авангардные течения скорее соседствовали с официальным академически ориентированным современным искусством, чем как-либо оспаривали его главный статус.


Чтобы контекстуализировать эту политику музея, напомню, что в те же десятилетия во Франции успешно развивалась система «дилер — критик», а вместе с ней и ранняя модернистская теория искусства. Как уже было отмечено, продвижение импрессионистов парижским дилером Дюран-Рюэлем стало самым ранним и успешным институциональным воплощением новой системы.
Можно сказать, что модернистская история искусства игнорировала Люксембургский музей по той же причине, по которой она игнорировала официальный Салон, ведь музей находился в эстетическом фарватере последнего. До монографии Лоренто первая и долгое время единственная значительная исследовательская попытка обратиться к истории институции — выставка 1974 года «Люксембургский музей в 1874 году», а точнее, реконструкция его живописного отдела под руководством Женевьевы Лакамбр в Гран-Пале. Как уже говорилось, в 1874-м музей радикально обновил экспозицию в консервативном, салонно-академическом ключе, с которым он и стал прочно ассоциироваться в дальнейшем. Для кураторов выставки в Гран-Пале также символичным и значимым было то, что в 1874 году открылась первая выставка импрессионистов. Идея реконструкции экспозиции Люксембургского музея через 100 лет виделась кураторам этапом создания музея Орсе с его ревизионистской идеей — под шапкой социальной истории искусства — впервые на равных представить современные друг другу официальную, салонно-академическую, и модернистскую линии французского искусства XIX века в рамках одной музейной экспозиции.
Вслед за Парижем музеи современного искусства один за другим возникают в двух самых крупных и космополитичных немецкоязычных художественных центрах: Мюнхене и Берлине. Возникают вполне закономерно: в обеих столицах уже были академии, официальная и частные выставки, музеи старых мастеров, а также художественная критика, собирательство и рынок, в равной степени необходимые для существования и развития художественной сцены.