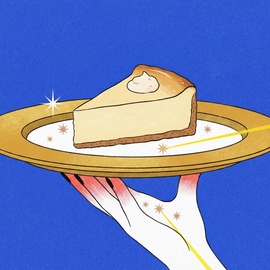Сергей Зенкин. Imago in fabula: Интрадиегетический образ в литературе и кино
В литературе и кино часто встречаются сюжеты, в которых визуальный образ — картина или скульптура — становится действующим лицом повествования. Книга филолога Сергея Зенкина рассказывает о таких образах. Автор обращается к обширному материалу — от Пушкина и Уайльда до Феллини и Антониони, чтобы показать, как развитие этих образов в современной культуре может свидетельствовать о важных изменениях в техниках и задачах художественного повествования. С любезного разрешения издательства «Артгид» публикует фрагмент главы «Переглядывающиеся портреты (Бунин)».
 Константин Сомов. В лесу. 1914. Холст, масло. Фрагмент. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Константин Сомов. В лесу. 1914. Холст, масло. Фрагмент. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
В новелле Ивана Бунина «Легкое дыхание» (1916) присутствуют и исподволь участвуют в действии два интрадиегетических образа, картина и фотография, — царский портрет в кабинете начальницы гимназии, куда вызывают «на ковер» героиню новеллы Олю Мещерскую, и портрет самой Оли Мещерской на могильном кресте после ее гибели. Оба изображения доступны восприятию не только читателей, но и персонажей рассказа, включены в горизонт их переживаний и поступков. В тексте они описаны очень кратко. Так, портрет императора дважды упомянут буквально несколькими словами:
«Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письменным столом, под царским портретом».
«Она [Оля] посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы...»
Однако он играет важную роль в драматическом развитии сцены. Портрет главы государства в начальственном кабинете призван освящать, легитимизировать власть, включая ее обычную функцию — подавление сексуальности, в чем и заключается нотация, читаемая начальницей гимназистке.
В терминах Эрнста Канторовича, это второе, идеальное «тело короля», помещенное прямо над головой реального бюрократа. Однако в бунинском повествовании символическая солидарность этих двух фигур нарушается, и в пространство между ними вклиниваются собственные интенции Оли Мещерской. Действительно, царь и начальница — лица разного пола; более того, в облике последней специально отмечена домашне-женская черта — ожидая прихода провинившейся ученицы, начальница занимается дамским рукоделием, а не изучением каких-нибудь бумаг, как приличествовало бы администратору. Ее символические отношения с царем переходят из политической в семейную форму: это как бы «родители», отец и мать девушки[1], чем та и пользуется, вступая в союз с «отцом» против «матери»; тайное сообщничество с императором на портрете придает ей храбрости в противостоянии с реальной начальницей гимназии. Образуется эдиповский треугольник в женском варианте: как отмечал Александр Жолковский, в странном удовольствии, которое Оля испытывает от кабинета, где ей вообще-то делают выговор, угадывается «не столько конфликт с начальницей, сколько роман с [...] “молодым царем”»[2]. Действительно, эпитета «молодой», который применен к этому мужчине, присутствующему при споре двух женщин о сексуальности, достаточно, чтобы придать ему самому эротическую валентность; а каждому читателю — современнику Бунина, помнившему правильные черты лица русского императора Николая II, должен был приходить на ум также другой, подразумеваемый эпитет «...и красивый». Конечно, он звучал бы недопустимой фамильярностью по отношению к августейшей особе, отчего, возможно, и цензурирован в тексте; но героиня новеллы смотрит на царя именно фамильярно, по-домашнему.

Ее мгновенный флирт с самодержцем не выражается какими-либо жестами, он чисто оптический, намеченный динамикой взглядов. Хозяйка кабинета начинает разговор, «не поднимая глаз от вязанья», тогда как Оля глядит «на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице». Затем девушка сама опускает глаза, в то время как начальница их поднимает: «...и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза». Наконец, Оля Мещерская тоже поднимает глаза — но смотрит уже не в лицо начальнице, а выше, то «на молодого царя», то «на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы». Двум собеседницам никак не удается встретиться взглядом, и в этой визуальной игре фигура начальницы пропадает, метонимически заменяется то клубком у нее под ногами, то пробором в ее волосах; между ними быстро перебегает взгляд Оли, успевая еще метнуться вверх на портрет царя, которому девушка украдкой от начальницы строит глазки. Портрет висит над головой начальницы, и царь изображен на нем во весь рост — то есть, чтобы посмотреть ему в лицо, Оле приходится высоко поднять глаза и, может быть, даже запрокинуть голову, — это дает представление об амплитуде визуального пробега. Такой скользящий, несосредоточенный взгляд отражает подвижность интрадиегетических образов: движение взгляда уподобляется движению рассказа и само его подталкивает.
Произведение живописи, чья копия фигурирует в «Легком дыхании», не выдумано писателем и поддается идентификации. Из многих известных изображений Николая II бунинскому описанию лучше всего соответствует парадный портрет работы Эрнста Липгарта (1900, ныне в Государственном музее-заповеднике Царское Село)[3]; на нем лицо царя, хоть и показанное не крупным планом, ярко высвечено, и хорошо видно, как он смотрит на нас «ясно и живо, но без всякого выражения на лице», — то есть Оля Мещерская воспроизводит его мимику собственной физиономией. Свет, врывающийся в залу на картине через окна, делает и само это полотно на стене окном, визуально распахнутым вовне, в «снежную, солнечную, морозную» зиму, и размыкающим закрытое пространство властного кабинета. Пространство распахивается не только визуально, но и онтологически: среди условно-фикционального мира новеллы (безымянный русский город, усредненные декорации провинциального быта) открывается выход в мир безусловно-реальный, где действительно существует портрет царствующего императора, созданный конкретным живописцем. Подобно клочку вчерашней газеты, наклеенному художником-авангардистом на поверхность картины, этот визуальный образ оказывается самым реальным элементом бунинского текста[4].

Для расстановки персонажей в рассказе существенно также, что царь предстает как молодой человек на старом портрете[5], и такая возрастная двойственность, с одной стороны, вносит неустойчивость в структуру символической «семьи», обеспечивающей власть в гимназии (седовласая «мать» выглядит существенно старше «отца»), а с другой стороны, уже за рамками этой сцены коррелирует с двусмысленной моложавостью реального любовника Оли и брата ее начальницы — Алексея Михайловича Малютина, тоже красавца-мужчины («ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет»). У щеголя Малютина есть сниженный двойник — другой любовник Оли, «некрасивый и плебейского вида» казачий офицер, которого она дразнит, сообщая о своем романе с Малютиным; но в эпизоде ее беседы с начальницей уже сам Малютин, провинциальный соблазнитель несовершеннолетних, неявно присутствует как низменный двойник идеализированного императора. Имплицитным соперничеством этих двух кавалеров обусловлена моральная амбивалентность всей сцены: отстаивая свое право на взрослое, «женское» поведение, героиня не только изящно заигрывает с далеким символическим «отцом», но и шантажирует реально присутствующую «мать» позорной тайной ее брата. Используя выражения Льва Выготского[6], можно сказать, что здесь наглядно сталкиваются в конфликте «легкое дыхание» девического эроса[7] и «житейская муть» уездного быта.
Кладбищенский портрет Оли Мещерской также очень скупо описан в начале новеллы:
«В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне — фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами».
Как и портрет императора, свою значительность он приобретает не от экфрастической детализации образа, а от рассказа о переживаниях и поведении других лиц по отношению к нему. Речь идет прежде всего о классной даме Оли Мещерской, которая «каждое воскресенье» и «каждый праздник» посещает ее могилу и глазами которой могила описывается во второй раз:
«Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте…»
Здесь повторяется ряд элементов первого, «авторского» описания; то есть, несмотря на свою подчеркнутую наивность и мечтательность, классная дама кое в чем подобна рассказчику или как минимум знакома с ним: они отмечают одни и те же детали и изъясняются сходными словами. Благодаря механизму косвенной и несобственно прямой речи эти двое — рассказчик и персонаж, еще одна пара мужчина + женщина[8] — совместно развертывают цепь перцептивных и мысленных ассоциаций, в которую вовлечен портрет героини. В воображении классной дамы погибшая ученица, при жизни как будто не вызывавшая у нее особенных чувств, «пленила ее новой мечтой»; как и прежде ее убитый на войне брат, эта девушка становится ее вторым «я», идеальным символическим телом[9], обосновывающим в данном случае не власть, а бескорыстную любовь-обожание.

Визуальный образ Оли (портрет на кресте) порождает визуальные же ассоциации: сначала это «бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов» — искусственное изображение на фотографии выглядит более живым, «бессмертным», чем реальное «личико» покойницы, образ опять реальнее действительности, — а затем схематичный, но визуально определенный образ ее гимназической подруги, «полной, высокой Субботиной». Александр Жолковский показал, как действует в новелле Бунина поэтика выступающих на первый план частных деталей[10]; в данном случае она ведет к мельканию ассоциативно соотнесенных визуальных мотивов (а также и аудиальных — таков несколько раз упомянутый в тексте звон ветра в фарфоровом венке на могиле), которые заслоняют целостный облик героини ее частными метафорическими и метонимическими проекциями — то могильным портретом, то лицом в гробу, то даже чужой, непохожей на нее фигурой подруги. Ненужное для фабулы сообщение о телосложении гимназистки Субботиной, которая ничем больше не проявляет себя в рассказе, накладывается на базовый образ-портрет и вместе с другими визуальными мотивами создает такую же, как и в сцене у начальницы, динамику скользящего взгляда, в данном случае мысленного.
Как и портрет императора, и даже сильнее его, могильный портрет Оли Мещерской сакрализован. Если царский образ сакрален лишь имплицитно, в силу общих традиций русской политической культуры (сакрализация суверена до сих пор проявляется в портретах Ленина/генсека/президента, украшающих кабинеты чиновников), то портрет на могильном кресте сакрализуется актуально, непосредственно в ходе рассказа. Его особый статус обеспечен не только религиозными конвенциями — почтением к мертвым и освященностью кладбищенской земли, — но и персональным культом, которым окружает Олину могилу классная дама. Кроме того, сакральность здесь не просто полагается как неподвижная данность, но развертывается в повествовательном и календарном времени. Известно, что «Легкое дыхание» относится к числу так называемых «пасхальных новелл» Бунина: рассказ был впервые напечатан в газете «Русское слово» 10 апреля 1916 года, в праздник православной пасхи, и классная дама совершает визит на кладбище тоже в «апрельские дни», следуя принятому в России пасхальному обычаю посещения могил. Синхронизированный с церковным календарем, ее путь также размечен религиозными объектами и символами: она идет по Соборной улице, минует мужской монастырь, входит на кладбище через ворота, над которыми «написано Успение божьей матери», и, наконец, усаживается перед крестом на могиле.
Примечания
- ^ Ее реальные родители упомянуты в рассказе лишь косвенно в словах начальницы: «...разоряете своих родителей на туфельки в двадцать рублей», а затем столь же бегло в дневнике самой Оли: «Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась одна». Вся их функция — онтологически умаляться, разоряться и отлучаться, оставляя дочь среди чужих людей, подменных родителей и их сомнительных родственников.
- ^ Жолковский А.К. Блуждающие сны: из истории русского модернизма. М.: Сов. писатель, 1992. С. 143.
- ^ Есть еще другой, сходный по композиции портрет, написанный Ильей Репиным в 1896 году (ныне в Государственном Русском музее); император там более молод (28 лет) и изображен среди «блистательной залы» в полный рост, тогда как у Липгарта ему 32 года, а фигура обрезана рамой на уровне колен. Однако на картине Репина у царя не столь молодцеватая осанка, а лицо прописано менее четко; эта реалистическая живопись хуже подходила бы как для украшения официального кабинета, так и для эротического интереса «шаловливой» гимназистки.
- ^ В панорамах XIX века искусственный визуальный образ обставляли снаружи предметами реального реквизита. Здесь же он внедрен — причем «изнутри» фикционального мира, а не как внешняя иллюстрация, приложенная к книге, — не в вещественную, а в текстуальную, то есть дискретную, онтологически прореженную среду; в этом смысле он реальнее собственной словесной «рамки».
- ^ Рассказ Бунина написан в 1916 году, а грамматическое настоящее время в его обрамляющем повествовании дает понять, что основные события произошли в недавнем прошлом; следовательно, портрет «молодого царя» был написан не менее чем за 15 лет до них. Эта временная дистанция лишний раз косвенно указывает на пожилой возраст начальницы, когда-то повесившей у себя в кабинете картину и с тех пор, по-видимому, не менявшей обстановку.
- ^ См.: Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство,1986. С. 183–205.
- ^ «...Мы называем это утробностью, а я там назвал это легким дыханием», — эти слова Бунина записаны в «Грасском дневнике» Г.Н. Кузнецовой (цит. по: Бунин И.А. Собрание сочинений. Т. 4. М.: Терра — книжный клуб, 2009. С. 291. Комментарий А. Саакянц).
- ^ Мужской взгляд рассказчика отчетливо проявляется, например, в описании прелестей юной Оли. Две гендерные пары — царь/начальница и рассказчик/классная дама — обладают структурным параллелизмом: в обеих парах женщина присутствует в диегетической реальности, а мужчина отсутствует, находится по ту сторону зрительной/повествовательной рамки, как живописный лик или закадровый голос. Близки и функции двух пар: освоение и присвоение мира (властное или визуальное).
- ^ Еще одна возрастная двусмысленность: классная дама названа «немолодой девушкой», и эта остраняющая формула, употребленная вместо стандартной «старой девы», заключает в себе такой же темпоральный перебив, как и «молодой царь»: на самом деле они оба были когда-то молоды… Анахроническое определение «девушка» перекликается с характеристикой Оли Мещерской («незаметно она стала девушкой…») и вписывается в терминологическую парадигму ее словопрения с начальницей («вы уже не девочка… но и не женщина…»). В качестве «девушки» классная дама, «маленькая женщина», уравнивается с «маленькой» в возрастном смысле гимназисткой, которая даже превосходит ее своей женственностью (сексуальностью).
- ^ Он первым указал на взаимосвязь двух портретов в «Легком дыхании» и на их общую функцию: это «два оживающих портрета» (типичная разновидность интрадиегетического образа в литературе романтизма), которые, «несмотря на обилие сдерживающих рамок», вырываются из них в диегетическую реальность (Жолковский А.К. Цит. соч. С. 141–142).