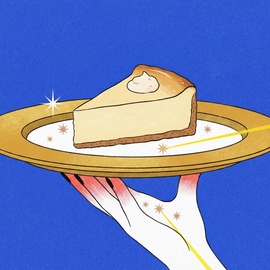Александр Черноглазов. Приглашение к реальному: Культурологические этюды
16 марта в Музее Звука в Санкт-Петербурге «Издательство Ивана Лимбаха» представит книгу Александра Черноглазова, переводчика трудов французского психоаналитика Жака Лакана, на языке которого автор попытался объяснить ключевые сюжеты из искусства, литературы и религии. С любезного разрешения издателя мы публикуем фрагмент эссе «От перформанса к иконе».
 Вито Аккончи. Three Adaptation Studies (Blindfold Catching). 1970. Источник: domusweb.it
Вито Аккончи. Three Adaptation Studies (Blindfold Catching). 1970. Источник: domusweb.it
Читая повествование святого Феодорита Кирского о его современниках, подвизавшихся в V веке по Рождестве Христовом в пустынях Сирии, испытываешь чувство изумления. На первый взгляд, этот мир согбенных под тяжестью много пудовых вериг постников и отшельников, бывших для соотечественников своего рода живыми святынями, представляется сказочным и фантастичным, ничего общего не имеющим с миром, где живем мы.
Рассказывая о своих героях, Феодорит с самого начала подчеркивает разнообразный характер их подвигов: «Питомцы благочестия придумали многие и различные лествицы для восхождения на небо. <…> Иные славословят Бога в хижинах, иные в палатках, иные проводят жизнь во рвах и пещерах. А многие не хотят иметь ни рва, ни пещеры, ни хижины, ни палатки, но предоставляют тело стихиям, терпя то холод, то зной. Но и у этих жизнь тоже различна: одни непрестанно стоят, другие иногда стоят, иногда сидят. <…> oдни окружаются стеной <…>, а другие не употребляют никакой ограды и предстоят очам всех, кто их желает видеть»[1].

В этих поисках «лествиц» персонажи Феодорита придумывают порою вещи поистине удивительные. И в самом деле, возьмем, к примеру, историю подвижника Фалалея, жившего невдалеке от маленького сирийского городка под названием Говал. Отшельник этот, «устроив два колеса по два локтя в диаметре, скрепил их между собой досками, не рядом положенными, но образующими между собой широкие щели. Потом, прикрепив доски к колесам клиньями и гвоздями, вытащил колеса на открытый воздух. Далее, укрепив в земле три длинных шеста и соединив их концы другими деревянными досками, повесил на них конструкцию из двух колес и досок и поместился внутри нее. И так как внутреннее пространство сооружения имело в высоту два локтя, а в ширину один, а блаженный очень высок ростом, то и сидит он там не выпрямившись, а постоянно согнувшись и преклонив голову к коленям». Увидев это, Феодорит подивился мудрости старца, «который не только проходил путь подвижничества, уже проложенный другими, но и сам себе придумывал подвиги особенные»[2].
Или подвижника Варадата, который «устроил из дерева небольшой и несоразмерный со своим телом ящик и жил в нем постоянно в согнутом положении. Ящик был сколочен из досок, но был решетчатым и потому подвижник не был защищен ни от дождя, ни от зноя». Несколько позже Варадат сменил образ жизни и стал подвизаться стоя. «Стоял он с руками, воздетыми к небу <…>. Тело у блаженного было покрыто кожаным хитоном; только около носа и рта оставлено было небольшое отверстие для дыхания»[3].
Или подвижницу Домнину, которая «живет открыто для всех, желающих видеть ее, будь то мужчины или женщины, только сама не смотрит ни на чье лицо и свое никому не показывает»[4], превращая, таким образом, свою жизнь в своего рода «реалити-шоу».
Но кульминацией, апофеозом сирийского подвижничества стало, разумеется, житие преподобного Симеона, сумевшего изобрести образ подвига, ставшего на столетия предметом для подражания. Уйдя из монастыря и начав подвизаться самостоятельно, Симеон поначалу «занял вершину горы, приказал обнести ее кругом стеною; потом, устроив железную цепь в двенадцать локтей, один конец ее приковал к большому камню, а другой привязал к правой ноге, чтобы нельзя было выйти из-за стены, даже если бы и захотел». Когда по совету епископа он разрешил эти узы, под кожаным рукавом, на который была наложена цепь, нашли более двенадцати больших червей. «Он мог легко сдавить кожу рукою и умертвить всех червей, — замечает Феодорит, — но захотел лучше терпеть мучительную боль».

Когда число приходящих к Симеону возросло, «и все стремились прикоснуться к нему и получить от него благословение или частичку кожаных одежд его»[5], он и придумал новый, прославивший его подвиг — стоять на столбе высотой сперва в шесть, потом в двенадцать, потом в двадцать два и, наконец, в тридцать шесть локтей. Столб этот, где он жил и часами стоял на молитве на виду у всех, совершая бесчисленные поклоны, стал на десятилетия местом паломничества не только окрестных жителей, но и обитателей удаленных от Сирии концов империи.
Невероятные, на первый взгляд, истории эти на самом деле вполне реальны, и элемент сказочного, чудесного сведен в них к минимуму. Но интересно не это. Интересно то, что чем более мы в эти рассказы вчитываемся, тем неожиданно современнее начинают они звучать. Богословствования в них на самом деле немного — мы очень мало узнаем о внутренней жизни подвижников, об их переживаниях и размышлениях. Рассказы эти на удивление материалистичны, и в большинстве их на первый план выходит тело подвижника. Мы мало знаем о том, что он думает и переживает, но очень много узнаем о том, что он есть и пьет, о тяжести его вериг, об устройстве его жилища, об образе его жизни.
Интересно и то, что жизнь эта, несмотря на изоляцию их в закрытых двориках или кельях, по сути дела, публична: домик подвижника может стоять на краю деревни и восприниматься жителями как их собственность, как местная святыня, как место культа. К нему или к ней (потому что среди подвижников были и женщины) приходят за молитвой или советом, но часто всего-навсего для того, чтобы в надежде исцеления коснуться его или похитить клочок одежды, чтобы вступить, одним словом, в прямой или косвенный контакт с его телом, которое ими и почитается за святыню.
Фигура столпника, его молитвенное «реалити-шоу» стали лишь кульминацией этой публичности. Поводом к строительству столпов была, разумеется, не только защита тела святого от посягательств его поклонников, но и демонстрация этого молящегося тела, этого, как говорит автор-свидетель, «нового и необычайного зрелища» всем желающим его увидеть, которых стекалось порой великое множество.
Посмотрим, как объясняет поведение подвижников сам Феодорит. Господь, говорит он, «повелел Исаии ходить нагим и разутым; Иеремии — препоясать чресла свои и в таком виде явиться с пророчеством к неверующим, а в другое время — наложить на шею ярмо, сначала из дерева, а потом из железа; Осии — взять в жены блудницу и питать любовь к жене злой и прелюбодейной; Иезекиилю — спать на правом боку сорок дней, и на левом — сто пятьдесят, а потом прокопать стену и выйти сквозь нее, чтобы изобразить таким образом плен; в другое время — взять острый меч, обрить голову, разделить волосы на четыре пряди и распределить одну туда, другую сюда. Каждому из этих событий Владыка повелел быть для того, чтобы не убеждающиеся словом и не хотящие внимать пророчеству необычайным зрелищем были бы приведены в себя <…>. И как каждому из этих событий Бог повелел быть для пользы живущих беспечно, так и стояние на столбе, избранное Симеоном, Он направил к тому, чтобы необычностью привлечь всех к зрелищу и сделать более убедительным предложенный ими урок; известно, что новость зрелища является надежнейшим проводником учения». Как цари меняют изображения на выпускаемых ими монетах, «так и Бог налагает новые черты на дела благочестия, предлагая многоразличные образы жизни, чтобы подвигнуть к славословию не только питомцев веры, но и страждущих неверием. <…> Свидетели тому не слова только, но голос самих дел» (курсив мой. — А. Ч.)[6].

Как видим, перед нами не просто аскеза, перед нами подвиг, требующий изобретательности, фантазии, новизны. Иными словами, своего рода художества. Каждый такой подвиг — это, безусловно, высказывание, проповедь, но по характеру своему это именно художественное высказывание. И задача его та же, что у всякого художественного высказывания вообще, — «необычностью привлечь всех к зрелищу», уловить взгляд зрителя, а с ним и его желание. Только наживкой, приманкой для желания зрителя служит здесь не прекрасная форма, не совершенное, идеальное тело, как в античном искусстве, а плоть.
Именно на этом пути сирийские подвижники и приходят к практике, которая вплотную смыкается с одной из самых радикальных форм актуального искусства — с искусством современного нам перформанса.
И действительно, всякий, кто хоть немного знаком с историей актуального перформанса — с творчеством таких, например, фигур, как Марина Абрамович или Вито Аккончи, — обнаружит между ними и нашими подвижниками поразительное сходство. И те и другие стремятся, разумеется, поразить публику необычностью и новизной представления. И те и другие устраивают для публики продолжительные и откровенные реалити-шоу, которые у подвижников могут длиться десятилетиями. Но главное в том, что художники перформанса, как и герои Феодорита, обращаются к людям, которые не убеждаются словом и не желают внимать пророчеству. Убедителен для таких людей только голос самих вещей, голос плоти. Мы видим в перформансах Марины Абрамович ту же готовность предоставить, открыть свое тело публике, которую наблюдали мы у сирийских подвижников. Но если в перформансе «В присутствии художника» художник предоставляет себя взгляду зрителя, то, скажем, в «Ритме 0» зрителю предоставлено само тело художника — используя предложенный набор предметов и инструментов, он может делать с ним все, что захочет. В первом случае желание остается на уровне зрения, созерцания — перед нами все еще, говоря аскетическим языком, «похоть очей», похоть, уже не сублимированная наброшенным на него покровом прекрасного. Во втором оно погружено в телесность, уже не опосредованную зрительным образом, — перед нами смертоносная «похоть плоти» со всеми присущими ей садистскими, агрессивными, разрушительными тенденциями. Недаром сама Абрамович признавала, что подвергалась во время перформанса реальной опасности, столкнувшись с направленной на ее тело агрессией.
Итак, художник-перформатор стремится спровоцировать желания зрителя и тем самым его обнаружить, выявить. Готовность публики за перформанс заплатить как раз и доказывает, что желание ее оказалось угадано.
Неплохой иллюстрацией этой позиции художника может послужить тициановская «Даная» из Эрмитажа. Ее выставленное напоказ тело привлекает взгляд похотливого божества-зрителя. Проникая в ее тело золотыми лучами, он щедро одаривает услужливо отодвинувшую завесу служанку, проливаясь дождем золотых монет в ловко подставленный ей подол. Тело выступает здесь хитроумной приманкой, призванной обратить желания зрителя в звонкую монету. Художник и есть не кто иной, как эта служанка, только тело божеству, не без риска, он отдает — а точнее, продает — свое собственное.