Борис Гройс. Ранние тексты: 1976–1990
19 марта 2017 года исполнилось 70 лет Борису Гройсу — одному из самых популярных теоретиков искусства в России и мире. К этой дате издательство «Ад Маргинем Пресс» и Музей современного искусства «Гараж» выпустили сборник его ранних статей, опубликованных в различных сам- и тамиздатовских журналах в 1976–1990 году. Книга выпущена под редакцией Наталии Никитиной, жены и многолетнего соратника Бориса Ефимовича. С любезного разрешения издателей мы предлагаем вашему вниманию фрагмент статьи «Искусство и проблема понимания», впервые напечатанной в ленинградском самиздатовском журнале «Часы», 1979, № 21, под псевдонимом Игорь Суицидов.
 Книга «Борис Гройс. Ранние тексты: 1976–1990», 2017. Фото: © Музей современного искусства «Гараж»
Книга «Борис Гройс. Ранние тексты: 1976–1990», 2017. Фото: © Музей современного искусства «Гараж»
I
В наше время зритель, писатель или слушатель, обращающиеся к тому или иному произведению искусства, в первую очередь задают себе и другим вопрос: «Верно ли я его понимаю? Когда этот вопрос задается, то речь, очевидно, не идет о том, чтобы пересказать произведение искусства или впечатление от него словами обыденного языка. Скорее, человек, находящийся перед произведением искусства, испытывает потребность в том, чтобы увидеть его «в правильном свете» или, как еще можно сказать, «в правильной перспективе». Можно возразить, однако: «Не помещает ли произведение искусства в “правильную перспективу” то первоначальное переживание, которое мы привыкли ассоциировать с самим понятием искусства и которое мы называем переживанием прекрасного? Не служит ли суждение нашего вкуса, обладающее всеобщностью, о которой говорил еще Кант, и находящее себе опору в специфической экзальтации чувств, в особого рода наслаждении, описанном неоднократно представителями самых разнообразных школ (от Платона до Гуссерля), — не служит ли это суждение мерилом того, искусство ли предстоит перед нами или нет?»
Однако когда мы говорим, что «не понимаем» произведения искусства, то мы именно указываем на отсутствие в нашей душе упомянутого переживания прекрасного. И более того, мы выражаем этими словами надежду на то, что если мы поместим произведение искусства в «правильную перспективу», то такое переживание может возникнуть. Мы предполагаем, таким образом, что понимание предшествует переживанию прекрасного, а не следует за ним.
II
Такой последовательности нас научил опыт современного искусства. Ранее, до второй половины XIX века, переживание прекрасного полагалось целью искусства. Искусство определялось в общем и целом как нечто такое, что сотворено человеком, прекрасно и бесполезно (то есть сотворено только для того, чтобы быть прекрасным). Где бы ни предполагался источник прекрасного (в Боге, в платоновских идеях, в субъекте переживания, в исторически сложившемся образце и т. д.), само прекрасное всегда выступало в качестве чего-то первичного, и именно в его свете тот или иной предмет проявлялся как прекрасный или безобразный. То же самое можно сказать не только о Красоте, но и об Истине и о Добре. В их свете открывались и знание, и моральная ценность того или иного поступка, и его форма. Однако полагаем ли мы сейчас, что следует вначале «понять» смысл того или иного поступка (понять его контекст, цели и побуждения человека, совершившего его, и т. д.), а уже затем судить о его моральной ценности? И не полагаем ли мы, что следует вначале познакомиться с целями и методами той или иной науки, а затем уже судить о ее результатах? Понимание в наше время предшествует и чувству, и воле, и мысли. Мы вначале понимаем, а затем уже переживаем прекрасное, ощущаем тяжесть категорического императива или мыслим истинное. Не правда ли, в ответ на вопрос: «Разве это не истинно?» — мы отвечаем вопросом: «Но в каких случаях? И в каком смысле?»

III
Из опыта науки, морали и искусства мы знаем, что не существует ни одной мысли, которая в определенном смысле не оказалась бы истинной, ни одного поступка, который в определенном смысле не оказался бы нравственным, и ни одного произведения искусства, которое в определенном смысле не оказалось бы прекрасным. Но как определен этот «определенный смысл» и где границы его определенности? Будучи определен в каждом частном случае, определим ли он в своем целом? Или безграничная изобретательность человека способна до бесконечности изобретать «определенные смыслы», оставаясь сама по себе безграничной и неопределенной? В этом случае господство Понимания над Истиной, Добром и Красотой означает хаос и произвол.
IV
Господствующая сейчас философская мысль ставит проблему понимания в центр своей активности. В Германии — Хайдеггер и его последователи, в Англии — Витгенштейн и его последователи, во Франции — структуралисты соссюрианской школы — все были (или продолжают быть) озабочены в первую очередь вопросом о том, что означает «понять», что есть «понимание» как таковое. И следует сразу сказать, что, несмотря на различие в стиле философствования, в манере изложения и в направленности интересов, ответ всех школ современной философии, а также всех гуманитарных наук, пронизанных ныне методами этих школ, на этот центральный вопрос един: решение проблемы понимания предлагается искать в соотношении между языком и речью.
А именно: предполагается, что понимание некоторого высказывания, поступка и т. д. наступает тогда, когда они включаются в некое целое и в этом целом приобретают смысл. То есть предполагается наивным судить о словах и действиях других людей, произведениях искусства и т. д. как бы «со своих позиций», в условиях «своего языка». Следует сначала описать и сделать явным для сознания тот язык, в рамках которого высказывание было произнесено, поступок совершен и произведение искусства создано, и лишь затем соотнесение высказывания с языком сделает высказывание понятным. Если ранее истинность высказывания удостоверялась сравнением его с тем, что можно назвать «действительным положением дел», то теперь этого уже не удается сделать, минуя язык. Если ранее, взглянув, например, на стену, мы легко могли ответить на вопрос: «Висит ли на стене картина?» — то теперь мы склонны выяснить вначале: «Что именно спрашивающий считает картиной? Что он имеет в виду под словом “висит”?» и т. д. Обращение к языку требуется для того, чтобы установить смысл вопроса. Лишь затем следует «взглянуть на реальность» и ответить.
Очевидно, что такой подход означает конец господства позитивных наук, несмотря на их кажущиеся успехи, ибо истина, сообщаемая позитивными науками, оказывается в зависимости от языка сообщения, реконструируемого науками гуманитарными.

V
То, что верно в отношении другого, оказывается верным и в отношении себя самого. Человек уже не может ныне доверять очевидности наблюдения, нравственного чувства или вкуса. Он сам погружен в язык, и его опыт опосредован языком. Только выяснив смыслообразующие законы собственного языка (феномен у Хайдеггера, языковые игры у Витгенштейна или просто «язык» структуралистов), человек может сделать прозрачным для себя самого свое собственное понимание. Субъект познания, а также нравственной и эстетической оценки пришел к концу. Метод познания (в стиле Декарта) также отменен этим переворотом, как и методичность добродетельной жизни и метод творческой работы. Метод движется от очевидности к очевидности. Но мы задаем вопрос: «Очевидность — но в каком освещении? И в какой перспективе?» — и само понятие метода теряет смысл. С утратой метода, однако, и возникает та угроза хаоса и произвола, о которой говорилось выше. Отличимо ли верное понимание от неверного? Есть ли граница между верным и неверным пониманием, подобная границе между истиной и ложью, между добром и злом, между прекрасным и безобразным? Поскольку при господстве Понимания над Истиной, Добром и Красотой разграничение в сфере понимания определяет все остальные границы, поиск такого разграничения становится определяющим для человека как в определении направления своей собственной активности, так и в оценке активности другого.
VI
Но что означает разграничить понимание на верное и неверное? Это означает найти критерий, в соответствии с которым один язык (то есть одно целостное раскрытие мира) оказывается «вернее» или «лучше», чем другой. Не абсурдна ли сама такая постановка вопроса?
Для Хайдеггера язык — «дом бытия». Для Витгенштейна также язык — последняя реальность: «языковая игра», тождественная «форме жизни». Язык замыкает для Хайдеггера и Витгенштейна горизонт понимания и существования человека. Несколько иной подход у Соссюра и структуралистов. Язык рассматривается ими извне как некоторый механизм, доступный наблюдению и описанию, а не изнутри как непреодолимая реальность. Различные языки для структуралистов — это различные коды, которыми передается одно и то же содержание — картина мира. Но доступна ли сознанию картина мира вне языка? Ответ: нет, если понимание предшествует опыту. Итак, если человек исходит из языка, в который он погружен, то чужой язык представляется ему загадкой, требующей разрешения. Разрешения посредством погружения, то есть посредством личного участия. Если же для человека изначальной представляется некоторая внешняя языку реальность, то чужой язык представляется ему простым механизмом кодирования этой реальности и вполне для него прозрачным. Загадкой для такого человека является, скорее, его собственный язык, в котором упомянутая реальность первоначально ему открывается.
Так возникает знаменитая дихотомия понимание/объяснение: погружаясь в свой собственный язык, исследователь перестает понимать чужой язык, а описывая и разъясняя чужой язык, он перестает понимать свой собственный. Эта дихотомия соответствует принципу, давно сформулированному в формальной логике Альфредом Тарским: никакой язык не может описать своих собственных условий истинности (своего отношения к внеположной ему реальности).

Как же описать границы языка? Для структуралистов это представляется сравнительно легким делом. Но решение достигается опять-таки использованием теорий, внеположных языку: культурной антропологией, марксизмом, фрейдизмом и т. д. Эти натуралистические теории выделяют некую людскую общность, и описываемый язык описывается как язык данной общности. Однако сам исследователь так же плохо защищен от обращения используемых им теорий против него самого, как он плохо защищен от упрека в непонимании собственного языка. А именно можно поставить под сомнение классовую принадлежность исследователя, выступающего с марксистских позиций, внутреннюю жизнь исследователя-фрейдиста и т. д. Любая натуралистическая теория, понимаемая кем-либо когда-либо, обращается против него самого. Взявший меч от меча и погибнет.
Но лучше ли положение герменевтика, идущего путем понимания? Он также открыт критике натуралистического типа. Его выбор «своего» языка, в котором он полагает себя укорененным, легко обнаруживает его собственные национальные, социальные и психологические границы.
Итак, мы видим, что выбор позиций в отношении разграничения понимания на «верное» и «неверное» невелик, если исходить из господствующих приемов рассуждения. Понимание отождествляется с языком, а язык — с его носителем, судьбой которого он становится. Тем самым получает власть натуралистическая критика, выступающая либо с позиций авторитетного знания (типа марксизма, психоанализа и т. д., понятых как «наука»), либо находящаяся во власти перманентного самобичевания (в форме критики своих собственных натуральных предпосылок). То есть остается выбор между социокультурным шовинизмом и истерикой в духе «все позволено».
Многообразие наличных языков не есть, впрочем, то же самое, что и возможность неограниченного умножения «определенных перспектив», в которые могут быть поставлены суждения, поступки и произведения искусства для оправдания их «в определенном смысле», как об этом говорилось в пункте III. Такое умножение возможных перспектив есть дело нашего воображения, стремящегося за новыми впечатлениями и за новыми мнениями. Это стремление находит себе выражение в вечной смене художественных стилей, навыков поведения и т. д. Как объяснить логику происходящих перемен? При структуралистском подходе к языку она объясняется посредством натуралистических теорий, объясняющих изменения в языках изменениями в жизни тех общностей, языками которых они являются. Существуют различные типы таких теорий — от марксизма до организмических теорий шпенглеровского типа.
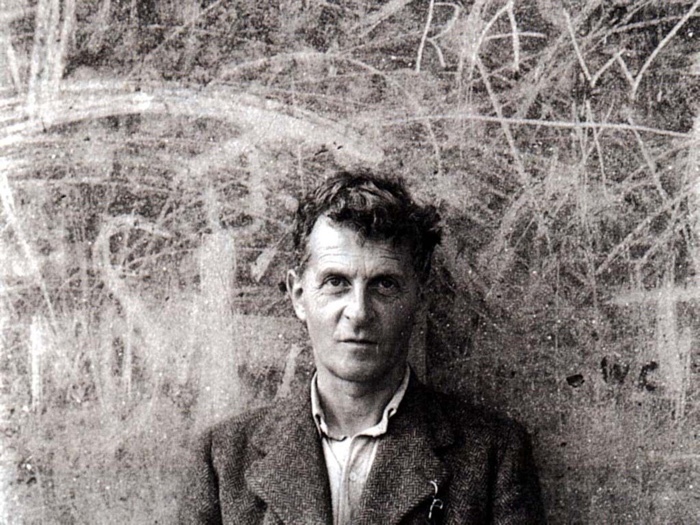
Иное отношение встречают перемены, диктуемые стремлением к «новым перспективам» со стороны философов, ищущих надежного основания знанию, что и является традиционной задачей европейской философии. Такие перемены ими просто-напросто осуждаются. Безграничность человеческого воображения и безграничность недоверия и сомнений, которые человек может противопоставить господствующему в языке пониманию, угрожает хаосом. Но не сводится ли такого рода работа воображения лишь к праздному любопытству и неразумным пересудам? Ответ: да, сводится. Такова точка зрения Хайдеггера, высказанная им в работе «Бытие и ничто». Такова же точка зрения Витгенштейна. Действительно: доколе возможны сомнения в понимании, представляемом самим языком? Кажущейся безграничности таких сомнений противостоит тот простой факт, что для того, чтобы их артикулировать, требуется обратиться к самому языку и сообщаемым самим языком исходным очевидностям. Язык вовсе не нейтральный передатчик некоей внеположной ему «информации». Для того чтобы выразить сомнение в чем-либо, следует погрузиться в очевидности языка: методическое сомнение Декарта означает на деле тотальное и неосознанное доверие к языку, ибо напрямую соотносит слово и предмет, что возможно лишь при имплицитном принятии возможности только одной и общезначимой «перспективы понимания», то есть полного господства повседневного языка. Именно на эту зависимость декартовского cogito от обыденного языка указал Хайдеггер и с нее начал свой анализ. Аналогична позиция Витгенштейна: в свойственной ему манере он говорит, что ни одно из положений Декарта не более достоверно, чем положение о том, что «коровы не растут на деревьях».
Сомнение праздно, если оно простирается за пределы существования, очерченного кругом языка, на котором мы говорим. Все доктрины — идеалистические, материалистические, солипсические, рационалистические, эмпирические и т. д. — бесплодны в той мере, в которой они формулируют себя, изымая слова обыденного языка из их собственной, определенной самим языком сферы понимания. Так, Витгенштейн предлагает подумать над тем, имеют ли в виду философы, рассуждающие о сознании, то же самое, что имеет в виду язык повседневности, когда говорят: «Такой-то потерял сознание». А Хайдеггер начинает разговор о вещах, противопоставляя метафизическому употреблению слова «вещь» его обыденное употребление.
Грех против понимания совершается, с точки зрения философии, тогда, когда слово изымается из языка, из его целостности, внутри которой оно только и может «верно» пониматься, и помещается в искусственную, сконструированную среду, в необязательную, «праздную» перспективу. Такое искусственное конструирование совершается человеком, отпавшим от «верного» понимания, даруемого самим языком. Человеком, забывшим о своей конечности, возомнившим себя демиургом мира и живущим химерами. Человеком, забывшим, что не он создал язык, но язык создал его и те изначальные смыслы, которыми он превратно оперирует. Происходит забвение языка. Или, что то же самое, бытия. Наступает господство метафизики с ее нигилизмом и сменяющимися стилями мышления, все более и более усугубляющими грех забвения языка. Такова позиция Хайдеггера. Такова, по существу, и позиция Витгенштейна.
Философия становится делом добродетели. Основание делается безосновным, но вновь обретается в душевной стойкости самого философа. То есть никакое основание вне самого философа не отделяет порядок и понимание от хаоса и произвола. Решение философа способно, однако, не провести границу, но удержать ее.




