Ильдар Галеев: «Каждый куратор защищает свою правду»
Основатель Галеев Галереи об учениках Кузьмы Петрова-Водкина, сотрудничестве с музеями и научных открытиях.
 Ильдар Галеев. Фото: Артем Силкин
Ильдар Галеев. Фото: Артем Силкин
Ильдар Галеев — московский куратор и галерист, основатель и владелец Галеев Галереи (2005), эксперт по русскому искусству первой половины XX века («Ленинградской школе», творчеству Николая Фешина, «казанскому авангарду» 1910–1920-х и среднеазиатскому искусству 1920–1950-х), автор-составитель около 40 изданий по творчеству русских художников и фотографов. В круг интересов Галеев Галереи входит «открытие ранее неизведанных пластов в изобразительном искусстве довоенного периода, демонстрация творческих наследий мастеров, незаслуженно оказавшихся на периферии общественного интереса, а также исследование уникальных и малоизвестных сторон творчества признанных художников этого времени».
К открытию выставки «Школа Кузьмы Петрова-Водкина (1920–1930-е)» был издан двухтомный каталог, объединивший рассказ о творческом методе художника и принципах его педагогики и сведения о творческой деятельности 50 его учеников. Надя Плунгян, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, встретилась с Ильдаром Галеевым и поговорила с ним о Кузьме Петрове-Водкине и «водкинцах», сотрудничестве с музеями и научных открытиях.

Надя Плунгян: Выставка «Школа Кузьмы Петрова-Водкина (1920–1930-е)», проходящая сейчас в вашей галерее, сегодня стала значимым итогом серии экспозиций и изданий, посвященных «водкинской школе». Расскажите, как получилось, что она стала для вас одной из главных тем. Дело в вашем особом отношении к Петрову-Водкину?
Ильдар Галеев: Это было неизбежно. Особое отношение — оно должно было возникнуть: изучение петербургской/петроградской/ленинградской художественной культуры привело к открытию ранее неизвестных имен. И с водкинскими учениками происходят такие счастливые вещи, потому что это одна из самых многочисленных в количественном отношении школ: у Малевича и Матюшина был в лучшем случае десяток-другой учеников, у Филонова — что-то около сорока…
Н.П.: Система Филонова подразумевала полную открытость непрерывному потоку учеников…
И.Г.: Даже люди с улицы, заходившие к нему раз или два, проходят у него в дневниках как ученики. С Петровым-Водкиным другая история. Он не пытался завоевывать авторитет молодежи какими-то эпатажными выступлениями, что было присуще Филонову и Малевичу, например. Для него это была такая рутинная подготовка в стенах Академии. Волей-неволей многим пришлось пройти через руки Петрова-Водкина, просто находясь в существовавшей системе преподавания, которая была по сути петрово-водкинской. Она была принята в 1920 году как главная, определяющая программа обучения на живописном факультете. Затем она разрослась и стала не только сугубо живописной программой, но и графической тоже. И Петров-Водкин сумел свои какие-то узко творческие концепции и взгляды на развитие творчества инсталлировать в эту программу и сделать ее частью всеобщего художественного обучения. Поэтому ребята, которые затем учились на скульпторов, которые оканчивали графический факультет, так или иначе соприкасались с «трехцветкой» Петрова-Водкина, с его сферической системой. И таких набирается несколько сотен. Другое дело, что не все затем этому следовали, не все стали «правоверными водкинцами». Среди «правоверных» я бы выделил около пятидесяти, они и стали героями этого выставочного проекта. Может быть, кого-то я упустил, есть лакуны. Мы не можем восстановить биографии очень многих людей — гибли они, их творчество. Оно забывалось, терялось во времени и пространстве. Даже состоявшиеся художники скептически относились к периоду своего обучения, недооценивая те студенческие опыты, что были у них в водкинский период. И совсем немногие художники из этой плеяды сохраняли свои учебные образцы. И как раз вот это и стало объектом исследования, потому что все эти одно- двух- и трехцветные опыты, все эти падающие, наклонные натюрморты, пейзажи, странные ракурсные и диагональные миры, они не были станковыми в художественном смысле или предметами экспозиционного показа — они были объектами лабораторного анализа и не выходили за пределы этой мастерской. Но время сделало их вполне состоявшимися произведениями искусства. И мне радостно, что произошла некая трансформация понимания того, что обыденные, рутинные учебные постановки сейчас могут на равных соседствовать с вполне состоявшимися станковыми произведениями. И в этом смысле феномен школы Петрова-Водкина 1920–1930-х годов особенно интересен. Меня прежде всего вот этот фактор увлекал при работе над проектом.
Н.П.: За последние годы ваша галерея выпустила монографические исследования творчества разных учеников Петрова-Водкина: среди них Герасим Эфрос, Петр Соколов, Николай Ионин. Как вы сейчас видите задачу двухтомника рядом с уже вышедшими книгами? Видна ли разница? Согласитесь ли вы, что он замыкает этот проект?
И.Г.: Соглашусь. Никто об этом не говорил, но вы попали в точку. Потому что подобная исследовательская деятельность имеет свой отсчет, как вы правильно сказали, с проекта, посвященного художнику Герасиму Эфросу (2002–2003), и постепенно эта тема стремилась к своему развитию. Двухтомник — это попытка обобщения опыта школы по каким-то «родовым» признакам. Студенты, которые занимались аналитическим методом, — это одна школа. Люди, которые выходили в космос супрематизма, — другая. Те, кто занимался расширенным смотрением, — третья. А здесь вот вполне определенно узнаются все, кто приобщался к Водкину: Эфрос и другие 49 героев этого проекта — они узнаваемы. И точно по их работам определенного периода можно сказать, что да, это водкинец. Конечно, был очень большой соблазн собрать их под одной обложкой, с текстовым материалом и с анализом того, каких художников именно эта школа могла вырастить. Это была амбициозная задача, и я рад, что она решена.

Н.П.: Ваши издания сложились в большую серию. Как вы видите ее место в контексте исследований искусства 1920–1930-х годов, появляющихся в последние годы? Появилась ли после открытия этой выставки новая кураторская дистанция по отношению к материалу?
И.Г.: Проект, как я уже сказал, был амбициозный. Но каждый человек, куратор, который вступает в это поле, всегда сталкивается с опасностью неисполнения поставленных задач. Существует теория, что история искусства 1920–1930-х годов пребывает в каком-то броуновском движении осознания ее собственной важности, ценности, цельности даже. Она не написана до конца. И есть ряд изданий последнего времени, которые, казалось бы, ставят точку в этой истории, но на самом деле это не так. Такое ощущение было после выхода книги Ольги Ройтенберг «Неужели кто-то вспомнил, что мы были…». Все думали, вот он, метод обобщения, коллективный портрет поколения на фоне исторического ландшафта. Относительно недавнее монументальное издание — «Энциклопедия русского авангарда»… И я считаю, что такие автономные проекты, как «Школа Петрова-Водкина», призваны дополнять эту формирующуюся систему ценностей, устоявшийся круг художников. Вот в этом я вижу важность подобных исследований.
Н.П.: Ваша выставка частично совпадает с запланированной на весну выставкой круга Петрова-Водкина в Русском музее, а во многом и предваряет ее.
И.Г.: Да, там тоже будет свой круг Петрова-Водкина, но он будет другим.
Н.П.: Знали ли вы об этом? Планировали ли такое совпадение, или задачи музея просто совпали по времени с вашими собственными?
И.Г.: Интересный вопрос. Знаете, я к этой теме отношусь как к своему чаду. Я пестовал ее, любовно дополнял новыми деталями, каждый рисуночек, каждый архивный документ, каждое письмо — не говоря уже о живописи. Какие-то подробности из документов, не доступных широкой публике, приобретали для меня особое значение. И когда я узнал, что Русский музей готовит подобный проект, у меня возник спортивный азарт. На самом деле, каждый куратор думает, что только он может дать подлинную и исчерпывающую картину явления, каждый защищает свою правду.

Н.П.: А в списке авторов у вас с ними есть пересечения?
И.Г.: Я видел их книгу, «Круг Петрова-Водкина. Из собрания Русского музея», которая только что вышла. Там есть имена, присутствующие и у меня. Но это неизбежно. Конечно, идеально было бы представить тему одновременно на двух площадках — в Москве и Санкт-Петербурге. Чтобы об этом писали, спорили, поскольку демонстрируются два разных подхода к одной теме, а это всегда интересно. Один дополняет другой. Судя по тому альбому, что я видел, мы подошли с разных концов. Кураторы Русского музея взяли за основу круг Петрова-Водкина, который включает в себя его ранних учеников еще по школе Елизаветы Званцевой, это начало 1910-х годов. Лев Бакст, преподаватель школы, уезжая навсегда из России, предложил вместо себя Петрова-Водкина, восходящую звезду русского символизма. И многие ученики Бакста восприняли это в штыки: кто-то последовал за Петровым-Водкиным, кто-то остался верен Баксту в стенах его бывшей мастерской. Некоторые из таких «отказников», например, Надежда Лермонтова, стали объектами рассмотрения в качестве «водкинцев» в проекте Русского музея. Но я думаю, что концепция Петрова-Водкина, жемчужины его методики — все вырабатывались в Академии художеств с 1918 года. Именно тогда он стал тем наставником молодых, которые не сравнивали его с кем-либо из предшественников — Бакстом, например. Есть еще один момент: имеет ли смысл в выставочно-издательском проекте проводить сравнения работ учеников Петрова-Водкина c эталонными вещами самого мастера. Мне кажется, подобное сравнение неправомерно, потому что в творчестве Петров-Водкин один, в преподавании он совершенно другой. И те довольно смелые эксперименты, которые он предлагал свои ученикам, в его собственном творчестве невозможны, он бы на них не решился. Например, вы никогда не увидите одноцветных, монохромных вещей в творчестве Петрова-Водкина. Он стал более радикален в творчестве именно тогда, когда стал общаться с молодежью в Академии. Именно тогда ракурсы и диагонали стали еще круче. А все эти падающие предметы наиболее ясно разрешались не в его творчестве, а в станковом творчестве ребят — его учеников. Это две разные ипостаси: быть преподавателем и быть художником. Некоторые говорят: хороший наставник — значит, плохой художник, и наоборот.

Н.П.: За тринадцать лет ваше сотрудничество с музеями как-то наладилось? Есть ли перспектива совместных инициатив — таких, какой была ваша выставка «Венок Савицкому», посвященная коллекции советского искусства в Нукусском художественном музее в Узбекистане? Другими словами, каким вы видите будущее сотрудничество галереи и музея в процессе восстановления общей картины искусства советского довоенного модернизма? Дополнение, конкуренция или взаимодействие?
И.Г.: И дополнение, и конкуренция, и вообще все виды сосуществования.
Н.П.: А если конкуренция, то в чем? Какие недостатки музейной работы вы видите?
И.Г.: Конкуренция — это такая логика борьбы, стремление к первенству равных по условиям соперников, если хотите. Мне кажется, мы не на том поле сходимся. Важно помогать друг другу в таких начинаниях. Очень часто мы, кураторы частных галерей, находим понимание у музеев, но случается так, что не всегда на нас смотрят как на коллег, соратников. Мы заняты одним делом — поиском важнейших вех в искусстве. Цель благородная, но не всегда благодарная: всякий раз тебе дадут понять, что в этом «совместном» деле ты — младший партнер. И именно по желанию «старшего брата» — музея — тебе могут создать условия для твоего культурного диггерства, а могут поставить заслон — кирпич, «вход воспрещен». Конечно же, роль музея как локомотива культурных преобразований в стране очень важна, но разве можно обойтись без частных инициатив, без пассионарности коллекционеров, галеристов, которые не за государственный счет исполняют свою миссию? Сегодня так важно учитывать этот момент — сочетание музейных возможностей и ресурса частной галереи. Не хочу быть голословным, но Государственный Русский музей в моем случае отказался от такого сотрудничества — это их взгляд на вещи, я нисколько не осуждаю. Но благодаря этому отказу — а он был именно со стороны музея…

Н.П.: А почему отказали?
И.Г.: Это удивительная история. Я обратился в ГРМ с просьбой предоставить мне для проекта изображения по теме «Петров-Водкин и его ученики». Мне отказали, причем мотивация просто поразила меня. В ответном письме говорилось, что они готовят похожий проект и потому не считают «корректным и целесообразным организацию выставки в [вашей] галерее с таким же названием». Я как-то даже и не думал, что государственный музей может диктовать выставочную политику частной галерее. Какая-то уже давно подзабытая лексика главка и парткома. Я-то полагал, что музей хранит наше культурное достояние, а не владеет и распоряжается им. А изображения этих сокровищ принадлежат народу, а не администраторам, получающим зарплату из наших налогов. Пришлось «идти по миру». И к счастью, таким способом я смог восполнить пробелы от отсутствующих в издании работ из фонда ГРМ работами из более чем двадцати музеев страны.
Н.П.: И каков процент работ из провинциальных музеев?
И.Г.: Около 80%. 29 договоров с провинциальными музеями, от Архангельска и Петрозаводска до Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Есть масса институций, университетов, музеев — частных и государственных, — в которых хранятся раритеты водкинцев. Я был рад увидеть работы школы и в Волгограде, и в Саратове, и в Симферополе — во многих уголках страны. Я даже не подозревал, что подобные вещи могут там быть!
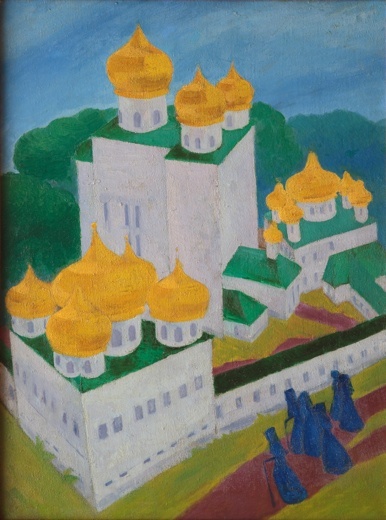
Н.П.: Вокруг школы Петрова-Водкина было немало жестоких споров. Многие пишут, что его манера слишком дидактична, работы учеников — на одно лицо, из-за чего общий уровень школы невысок, и тому подобное. Насколько определяющей для вас оказалась эта проблема, пока вы работали над темой?
И.Г.: Мне кажется, что требовать от 17–18-летних студентов самостоятельности, оригинальности мышления — это слишком. И потом, Петров-Водкин ведь готовил не гениев, а добротных профессионалов, а уж что потом с ними происходит, какую эволюцию они затем переживут — дело их будущего. Молодые ребята принимались в 1918 году без экзаменов, достаточно было одного желания учиться. Это самая демократичная школа искусств в мире на тот момент. Они переступают порог мастерской великого мастера, которым все восторгаются, о котором все пишут и пред которым все преклоняются. И мы хотим, чтобы они при этом сразу обрели опыт независимо мыслящих творческих личностей? Конечно нет. Школу оценивают по лучшим ученикам. И вот Владимир Дмитриев — один из тех, кто решительно опровергает тезис о низком качестве школы.

Н.П.: Да-да, мне как раз хотелось поговорить о Дмитриеве. Действительно, выставка получилась очень многомерной. Есть на ней очевидные «хиты»: контрастные учебные вещи Евгении Эвенбах, малоизвестные публике; «Лестница» Леонида Чупятова; необычное масло Бориса Пестинского 1933 года — благородная темная живопись, остающаяся, однако, очень водкинской по сюжету и пониманию пространства. В этом контексте работы Владимира Дмитриева неожиданно воспринимаются как отдельная монографическая часть. Он показан, как серьезная величина в советской живописи 1920–1930-х, чего, мне кажется, никогда еще не было, и выглядит у вас одной из главных фигур школы…
И.Г.: При том что это не забытая фигура. Есть монография Виктора Березкина, достаточно подробная. Есть многочисленные публикации Николая Чушкина. Когда о Дмитриеве говорят как о важнейшей фигуре в театральном дизайне, ни у кого не вызывает сомнений такая формулировка. Но то, чем он занимался во времена своего обучения у Петрова-Водкина, всегда остается какой-то terra incognita. Конечно, я просто счастлив, что усилия увенчались успехом, художник показан и с другой стороны. Он очень интересен, хотя бы тем, что совместил в своем творчестве не только водкинские установки, но и мейерхольдовские тоже. Мы видим сочетание двух на первый взгляд несочетаемых школ, подходов, взглядов. Хотя и с этим можно поспорить, потому что был КУРМАСЦЕП (Курсы мастерства сценических постановок в Петрограде. — Артгид), а рисунок там по просьбе Мейерхольда вел не кто иной, как Петров-Водкин! И многие ребята, которые обучались у него в школе Званцевой, так или иначе переместились к нему же в КУРМАСЦЕП. И вот это театральное, игровое начало Мейерхольда, эта commedia dell’arte, нечто, несвойственное Петрову-Водкину, находит отражение в трехцветных вещах Дмитриева. Например, эскиз декорации к спектаклю «Любовь к трем апельсинам», где оно очень ярко выражено. Или ранние его эскизы декораций к «Стеньке Разину» Василия Каменского, где хорошо усвоен не только метод трехцветки и мейерхольдовской игры, но также и метод кубизма. Вы, наверное, видели театральные задники Дмитриева, которые буквально насыщены вот этим как бы кристаллическим состоянием, идущим от Врубеля. Потому что связь между Врубелем и Петровым-Водкиным тоже намечается явная. Да и Водкин говорил: «Мы все ограмотились на футуризме и кубизме». Поэтому каждый из них — Дмитриев в частности — сочетал то, с чем сталкивался ежедневно. Они ходили в «Бродячую собаку», ощущали новые интонации и преобразовывали их в живопись радикального толка, и получалось что-то такое невообразимо интересное. Скажем, зеркальные автопортреты Дмитриева — они только на первый взгляд инспирированы петрово-водкинской манерой. На самом деле там найдется место и символизму, и авангардному предощущению, и академическому искусству.

Н.П.: Да, Дмитриев кажется необычной фигурой, в чем-то близкой Юрию Великанову, Николаю Радлову, Николаю Акимову и некоторым другим ленинградским мастерам, тяготеющим и к неоклассике, и к ар-деко. На выставке он сильно выделяется. Сразу начинаешь думать, что работа с таким материалом, в большей степени позволяющим привлечь западный контекст, может стать хорошей перспективой для галереи, пока наши музеи страшно медленно занимаются экспонированием советского искусства «первого и второго ряда».
И.Г.: Так мы поможем музеям освоить наш культурный багаж! Русский музей, в своем исследовании, например, прошел мимо такой художницы, как Александра Николаевна Якобсон. С моей точки зрения — совершенно изумительный автор шведских кровей, оказавшаяся в Иркутске из-за того, что ее сосланные родственники были народовольцами. А в Иркутске был такой филиал водкинской школы в лице ее руководителя Ивана Копылова, который вообще вырастил очень много будущих водкинцев. Безумно интересный ее талант, который расцвел в середине 1920-х, обогатил водкинскую форму новым содержанием, а именно этнографической составляющей. Постоянно курсируя между Иркутском и Ленинградом, находя утешение в заброшенных буддистских дацанах и описывая ежедневную жизнь монахов этих дацанов, она привнесла что-то этнографически пряное, свежее. Потому что все ее мальчики-монахи в дацанах — родные братья водкинским отрокам, но при этом они такие якобсоновские. Подобные художники очень интересны. О Пестинском вы тоже очень правильно выразились. Отношение к Ренессансу у всех водкинцев было очень нежным, трепетным. Потому что он воспитывал их на лучших примерах Ренессанса. Известна чрезвычайно экзотическая история жизни Пестинского, не только художника, но и герпетолога, охотника за змеями. И судьба так сложилась, что он погиб от укуса змеи. Тут чувствуется некая предначертанность, мифологичность, связанная и с его творчеством, и исторической эпохой.
Кого еще хочется вспомнить — это Герасима Эфроса. На выставке вы видите по представленным образцам, что его продуктивный период был очень краток, буквально до 1925–1926 года, потом он ушел в сатирическую графику. Твердая рука мастера перового рисунка — то, что ему помогало в сатире. Как мы знаем, все ученики Петрова-Водкина, например, Елена Сафонова, были прекрасными рисовальщиками. Эфрос, на определенном этапе исповедуя водкинщину и уйдя в сферу деятельности, где царили русские Домье и Гаварни, в какой-то момент, в конце 1920-х, утратил все водкинское и более не занимался станковым творчеством.

Н.П.: Помимо живописных «хитов» на выставке есть и яркие научные открытия, такие как эскиз Александра Самохвалова. Расскажете об этом?
И.Г.: О да! Самохвалов в своих поздних воспоминаниях преклонялся перед гением Петрова-Водкина. Его эволюция началась с «Головомойки»: это чисто водкинская работа, где все вывернуто наизнанку, где он препарирует это пространство, как ленту Мёбиуса. Он всячески пытался оторваться от притяжения учителя и не раз в этом признавался. Водкинская Земля, планета — все то, о чем толковал Водкин, — Самохвалов пытался преодолеть. «Кондукторша», одна из лучших его работ, которая хранится в Русском музее, есть не что иное, как переосмысленная давняя учебная постановка Петрова-Водкина! В программе обучения живописного факультета есть такое задание: «В трамвае». Я нашел потом по каталогам выставок 1920-х годов информацию о том, что многие соратники, соученики Самохвалова — Дмитриев, Эфрос, Эвенбах, Сергей Присёлков — имели штудии с таким же названием, «В трамвае»! И они по-разному давали этот сюжет, отталкиваясь от водкинских инспираций. У Водкина тоже было несколько работ «В трамвае». Его, видимо, привлекала некая центростремительность движения при неподвижности определенной субстанции. И «Кондукторша» — это такой вызов для Самохвалова: создать на основе обыденной, ординарной учебной постановки мастера шедевр искусства. В образе кондукторши художник представляет не просто некую отвлеченную фигуру, чтобы продемонстрировать композиционный прием, а придает ей черты символа — эпохи, времени. Самохвалов отождествляет ее с Афиной Палладой, как он сам позже напишет, рассуждая о бесценности уроков античности. Он засвечивает, как на кинопленке, правую сторону лица своей героини, предлагая смелое колористическое решение. Картина прозвучала так мощно и убедительно, что мало кто заметил отсутствие в обширном наследии Самохвалова следов, предвосхищающих ее создание: никаких эскизов, набросков, этюдов к ней. Удача улыбнулась, когда я исследовал архив Николая Ионина — тоже ученика Петрова-Водкина. Ионин, как вы знаете, был женат на сестре Самохвалова. В семье художника сохранилась часть архива Самохвалова, в том числе два больших ватмана с пастельными изображениями двух моделей. В них было что-то дикое, необработанное, некий слепок праславянской, домонгольской истории. Это были изображения девушек с древними украшениями — монистами. Листы были смонтированы на другую основу, а на их обороте оказался двухчастный сюжет с кондукторшей. И, что самое удивительное, он был разграфлен на квадратики, что давало основание поверить в то, что это картон к фреске. Вероятно, изначально художник предполагал делать не столько живопись, сколько настенную роспись. Эскиз один в один по размеру совпадает с живописным оригиналом. Удивительно, как домонгольские фенечки вдруг трансформировались в кружочки билетов этой кондукторши! По этому эскизу уже можно судить о грандиозности замысла художника.
Н.П.: А ведь вы давно занимались Иониным. Получается, пришлось ждать несколько лет?
И.Г.: Да-да, три года назад находка эта состоялась, и вот наконец представился случай ее публично продемонстрировать.

Н.П.: Последний вопрос: чего, на ваш взгляд, не хватает современным исследованиям советского искусства?
И.Г.: Не хватает параллелей с современным ему западноевропейским искусством. Теперь очевидно, что связи были. Первая всеобщая выставка немецкого искусства 1924 года произвела неизгладимое впечатление, как и выставка французского искусства 1928 года (Первая всеобщая германская художественная выставка в Советском Союзе (ГМНЗИ, 1924) и Выставка современного французского искусства (ГМНЗИ — ГТГ, 1928). — Артгид), в которой участвовало достаточно много и русских мастеров-эмигрантов. Но кроме того, страна была открыта для получения журналов, печатных изданий, книг, брошюр. Люди переписывались, общались между собой. Примерно до 1928–1929 года не существовало железного занавеса, художественные процессы были параллельны. И то, что мы называем сегодня русским модернизмом — я думаю, сейчас мы можем уже с полным правом так его называть, — это не нечто отвлеченное, это не автономно развивающаяся субстанция, а сообщающийся сосуд с западноевропейским. Те вещи, которые возникали в искусстве Италии, отзывались у нас в России. Например, вы увидите экспонат выставки, картину Дмитрия Крапивного «Натюрморт с африканским божком». По сути это метафизическая живопись в духе Де Кирико, Казорати, многих художников Новеченто и итальянских метафизиков. Какие-то мотивы шли и через познание немецкого экспрессионизма. Не важно, занимался ли ученик у Матюшина, Петрова-Водкина или Филонова, само понятие экспрессионизма для каждого из них толковалось по-своему. Не просто слепки с Кирхнера или с Нольде, а вещи, обогащенные русским опытом, как у раннего Юрия Васнецова. Или, например, французские мотивы в творчестве Петра Соколова. Многие писали об этом впечатлении (Василий Власов, когда приходил к Соколову в мастерскую), когда видели вещи в духе Дерена, Мари Лорансен, что было для него странным. Есть большой соблазн перекинуть мост и провести сравнительный анализ того, чем была увлечена наша художественная молодежь в конце 1920-х, и того, что создавалось тогда же на Западе. Сейчас есть все, чтобы исследователи серьезно подошли к этому вопросу, но для этого требуется хорошая ориентированность в материале европейского искусства, знание языков, на которых написаны десятки монографий об этом периоде, общая культурно-историческая подкованность искусствоведов. Впрочем, попытка сделана, есть исследование Елены Грибоносовой-Гребневой о европейских «-измах» в творчестве Петрова-Водкина. Я думаю, сейчас пора заняться и творчеством «птенцов» Петрова-Водкина в проведении таких же параллелей.




