Кэлвин Томкинс. Марсель Дюшан. Послеполуденные беседы. М.: Грюндриссе, 2014
В издательстве «Грюндриссе» вышел небольшой по объему, но весьма важный по содержанию сборник поздних интервью художника Марселя Дюшана (в переводе Сергея Дубина). Сборник создан в 1964 году арт-критиком Кэлвином Томкинсом. С любезного разрешения Надежды Гутовой (издательство «Грюндриссе») мы печатаем фрагмент одной из бесед и призываем всех немедленно отправиться в книжный магазин (например, в «Фаланстер»), чтобы узнать, что было дальше.
 Марсель Дюшан. Множественные портреты. 1917. Фотоателье на Бродвее, Нью-Йорк. Courtesy издательство «Грюндриссе»
Марсель Дюшан. Множественные портреты. 1917. Фотоателье на Бродвее, Нью-Йорк. Courtesy издательство «Грюндриссе»
Кэлвин Томкинс: Сегодня я хотел бы попросить Вас рассказать о Вашей жизни в Нью-Йорке до Первой мировой. Вы как-то сказали, что город с тех пор сильно изменился.
Марсель Дюшан: Ну, жизнь во всем мире пошла по-другому. Взять хотя бы налоги. В 1916-м, 1920-м налогов попросту не существовало — или это было настолько неважно, что люди о них даже не думали. Сегодня с приближением марта или апреля всех начинает бить фискальная лихорадка, каждый твердит, что не может ничего себе позволить, надо ведь платить налоги. Раньше всей этой горячки никто и не знал. Да и в остальном жизнь шла гораздо спокойнее, по крайней мере в том, что касалось отношений между людьми. Было куда меньше всей этой мышиной возни, которую сегодня только и видишь. Весь мир крутится, как белка в колесе, Америка тут не исключение.
КТ: Но, вместе с тем, несмотря на всю коммерциализацию и мышиную возню, нельзя не признать, что среди молодых художников сейчас происходит масса всего интересного. Они куда изобретательнее, по-настоящему берут за душу...
МД: Да, тогда не было такой активности. Собственно, художников было меньше. Профессия художника, решение выбрать этот путь были уделом немногих, в отличие от того, что творится сегодня, когда молодой человек без каких-то особых способностей говорит: а не попробовать ли мне себя в искусстве? В мое время молодые люди, не знавшие, куда себя деть, пробовали себя в медицине или учились на адвоката. Так уж было заведено. Все было проще, и обучение не занимало столько времени, как сейчас. Диплом врача получали года за четыре, во Франции, по крайней мере. И в Америке, не знаю точно, наверное, столько же — не то, что сегодня. Все это сильно изменило жизнь нынешней молодежи.
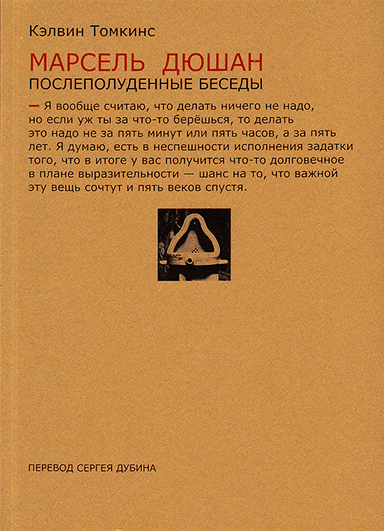
КТ: Вы полагаете, сейчас распространено мнение, что искусство — занятие немудреное?
МД: Не то чтобы его стало легче создавать — но вот сбыть его куда проще, это да. Существовать на доходы от искусства было в наше время просто невозможно, за очень редким исключением. Карьера художника как способ заработка в 1915 году — об этом нечего было и думать. Сегодня, впрочем, прахом идут надежды куда большего числа людей, которые пытаются жить искусством, но не могут, настолько велика конкуренция.
КТ: Но, может, вся эта новая активность в мире искусства — в каком-то смысле здоровый признак?
МД: Возможно, если взглянуть на это под социологическим углом. Но с точки зрения эстетики, на мой взгляд, вреда тут гораздо больше. Как я полагаю, результатом такого массового производства может стать только посредственность. Просто не хватает времени на создание по-настоящему глубокого произведения. Ритм производства такой, что искусство превращается в подобие такой вот возни — ну, не мышиной... даже не знаю точно. (Смеется.)
КТ: Но нет ли здесь отражения изменившихся представлений о том, чтo такое искусство, — утраты веры в возможность создания шедевра, попытки вписать искусство в повседневность?
МД: Совершенно верно, я бы назвал это интеграцией художника в общество — то есть сейчас он становится на одну ступень с адвокатом или врачом. Полвека назад мы были отщепенцами — родители девушки на выданье ни за что не позволили бы ей выйти замуж за художника.

КТ: Но, по Вашему же собственному признанию, Вам нравилось быть отщепенцем.
МД: О да; разумеется, жить так, наверное, не очень комфортно, но, по крайней мере, было ощущение, что вы создаете что-то необычное, может быть, даже что-то на века.
КТ: Значит, Вы осуждаете интеграцию художника в общество?
МД: В каком-то смысле это все очень приятно, появляется возможность зарабатывать на жизнь. Но такое положение дел совсем не идет на пользу качеству работы. Я лично считаю, что по-настоящему важные вещи делаются неспешно; не думаю, что творчеству должна быть присуща штамповка, а при такой интеграции иначе просто не получается. Я не приемлю той скорости, той быстроты, которую сейчас привносят в художественное производство, чтобы поскорее выбросить на рынок что-то новое. Чем быстрее — тем лучше, как принято считать.
КТ: Вы говорили, что такому положению вещей способствовала и Ваша собственная работа.
МД: Да.
КТ: Создание реди-мейдов, например...
МД: Видите ли, я лично брался за такие вещи вовсе не с целью выпускать их тысячами. На самом деле задачей было как раз отойти от конвертируемости — можно даже сказать, монетизации — произведения искусства. Продавать реди-мейды я не собирался. Смысл этого жеста — доказать, что можно творить, не думая подспудно, как бы на всем этом подзаработать.
КТ: Вы не продали ни одного реди-мейда?
МД: Никогда. Продавать — никогда. Более того, я их даже и не выставлял. Впервые кто-то увидел их лишь двадцать лет назад. Когда в 1916-м их показал у себя Буржуа[1], речь шла скорее об одолжении с его стороны, даже розыгрыше (и затея была его, не моя). Так что если я и несу ответственность за некоторые нынешние тенденции, то лишь отчасти.
КТ: Как Вы относитесь к бытующему сейчас представлению об искусстве как о чем-то неуловимом — «средоточии психической энергии», по словам Гарольда Розенберга[2]? Это уже не зафиксированный раз и навсегда шедевр, висящий на стене, а нечто иное.
МД: Так тоже может быть. Разумеется, непросто убедить в этом тех, кто покупает искусство — коллекционеры известны своим консерватизмом. В целом им элементарно не хватает понимания. Им надо, чтобы вещь можно было потрогать. Они щупают, а не вникают. Для них осознать, что их покупка не предназначена для стены, для украшения гостиной, — уже большой шаг. Они ведь как думают: «Куплю-ка я эту штуку, будет что друзьям показать» или: «Соберется народ на вечеринку, поражу их Раушенбергом» и так далее. Они любят, глядя на цвета или сочетания форм, небрежно обронить: «Как же мне все это нравится — а вам? Просто прелесть!». Вот такие выражения. Прелестный лексикон, не правда ли? (Посмеивается.)
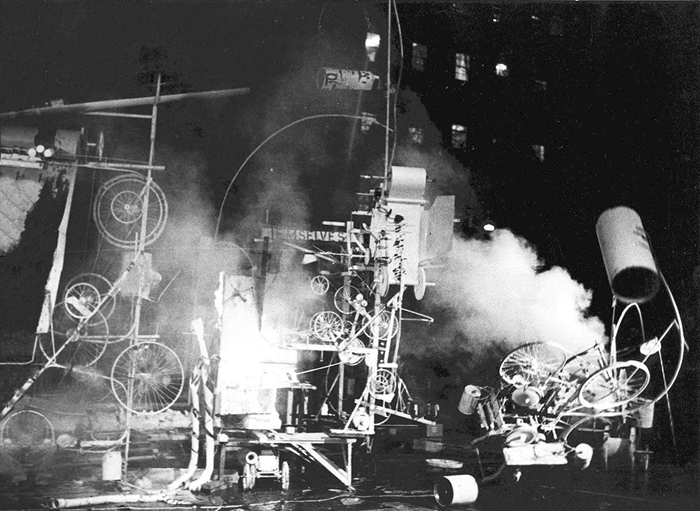
КТ: Коллекционерам следовало бы скорее видеть в этих произведениях то, что вдохновило их создание?
МД: Да, тогда хотя бы появился шанс вернуться к духовному восприятию искусства, которое сегодня начисто исчезло. Или не исчезло полностью, но его в большей или меньшей степени затмевает стоимость картин. Они могут быть сколь угодно одухотворенными, но коллекционер всегда в конеч- ном итоге говорит: «А заплатил я столько-то». Много или мало, все одно — если сумма невелика, он задается вопросом: «Я что, обобрал кого-то?». Если же расстался с целым состоянием, то: «Это для меня предмет особой гордости, ведь я столько за нее выложил!».
КТ: Не кажется ли Вам, что такая коммерциализация искусства в наше время во многом его определяет?
МД: Да, именно так. Это все результат интеграции. Ведь что такое интеграция? Поскольку работа врача или адвоката должна быть оплачена, за услуги вы должны им столько-то и столько-то, то и за работу художника, впервые за последние сто лет интегрированного в общество, также надо платить. Так повелось. Оплата — один из признаков интеграции, об этом никто не задумывается, объяснять тут нечего, это подразумевается само собой.
КТ: Как тогда, по-Вашему, молодому художнику вырваться из сложившейся ситуации — ведь Вам это удалось накануне Первой мировой?
МД: Года три назад в Филадельфии проводился специальный симпозиум более или менее на эту тему — о том, как нам быть дальше. И я в итоге сказал там, что завтрашний гений в искусстве должен стать невидимым: его никто не должен знать, ему вообще надо уйти в подполье. Если повезет, его признают после смерти, а может, он так и останется никем. Уйти в подполье — значит порвать все денежные связи с обществом. Интеграция должна быть для него неприемлема. Вся эта подпольная деятельность вообще чрезвычайно интересна — художник может быть сегодня настоящим гением, но, дав себя испортить, запятнать плещущимся вокруг морем капитала, он сведет весь свой гений на нет. Может, сегодня нас окружают десятки тысяч по-настоящему талантливых людей, но гениями без везения и чудовищной целеустремленности им не стать.
КТ: Ну, Вы, в своем роде, как раз и ушли в подполье?
МД: Нет. Может, только в самом начале — какой из меня сейчас подпольщик, ко мне все время приходят за интервью! (Смеется.) Возможно, это меня и погубит.
КТ: Заметим в скобках, несколько странно видеть Вас дома в окружении картин Матисса, который несомненно был ретинальным художником.
МД: Ну, они принадлежат жене, приходится с ними мириться. (Смеется.) А потом, знаете, мое окружение, то, где я живу в данном случае, меня никак не интересует и не беспокоит. Я могу жить с самым безобразным календарем на стене или мебелью вокруг, поскольку вкус никогда не был фактором в моей жизни. От подобного опыта я стараюсь держаться подальше. Плохо, хорошо, безразлично — это просто не мое. Я решительно против художников-оформителей.

КТ: То есть Вы против вкуса как такового, в том числе плохого?
МД: Нет!
КТ: Например, Леже как-то сказал, что ему нравится безвкусица. Она его стимулирует...
МД: Хороший вкус, плохой, никакой — мне все равно. Вкус не должен делать вас счастливым или несчастным, понимаете? В этом-то вся проблема: вкус не поможет вам понять, чтo такое искусство. Очень сложно создать по-настоящему живую картину, которая, мирно скончавшись лет этак через пятьдесят, вернулась бы в чистилище истории искусства. А, как учит нас эта самая история, несмотря на все то, что говорил или делал художник, после него остается нечто совершенно не зависящее от его желаний — общество само ухватилось за это нечто, присвоило его. Художник здесь не в счет. Он просто ни при чем. Общество усваивает то, что хочет.
КТ: Но художник не должен на этом зацикливаться?
МД: Абсолютно нет, потому что он ничего в этом не понимает. Он только думает, что понимает. Рисует, например, обнаженную натуру и думает, что знает, чтo делает. Да, картина красивая. Но это никак не связано с тем, чтo увидит в ней зритель: он разглядит в ней нечто совсем иное. Приоритет для настоящего знатока искусства, эксперта, не важно, как его назвать, — не в том, чтобы говорить с художником на одном языке. Лет через пятьдесят придет новое поколение, которое спросит: «Что они сказали? О чем они там вообще говорили?».
КТ: Об этом Вы упоминали в Вашей лекции в Хьюстоне.
МД: Да — о том, что картина рождается в ее взаимодействии со зрителем. Без него она будет пылиться на чердаке. Самостоятельного существования у произведения искусства нет. Всегда нужны два полюса — зритель и творец, — и возникающая от напряжения между ними искра дает жизнь чему-то новому — как электричество. Не надо считать художника великим мыслителем, поскольку он создал эту картину. Ничего такого он не создал, пока зритель не скажет: «Ты произвел на свет нечто прекрасное». Последнее слово — всегда за зрителем.
КТ: Иными словами, художник не должен считать себя высшим существом.
МД: Да, но попробуйте им это объяснить! Если я — сам будучи художником — начинаю убеждать в этом других, в ответ звучит: «Да ты с ума сошел! Я знаю, чтo делаю». У них такое раздутое эго. Тошнит просто. Нет ничего хуже, чем склад ума художника. Низкий пошиб, совершенно неинтересно с точки зрения отношений между людьми.




