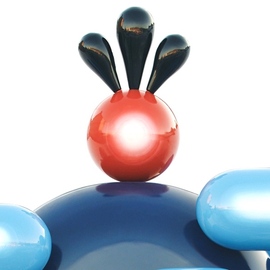17.07.2013 35430
Марейе Вохелзанг: «Я говорю об общих для всех вещах — о еде, о памяти»
Голландский «дизайнер еды» Марейе Вохелзанг — о еде, едоках, человеческих отношениях и о том, почему лучше есть с завязанными глазами.
 Источник: marijevogelzang.nl
Источник: marijevogelzang.nl
В первые две недели июля «Новая Голландия» в Петербурге принимала у себя фестиваль современной культуры Orange Days — одно из центральных событий года России — Нидерландов. Среди многочисленных гостей фестиваля «Артгид» больше всего заинтересовала Марейе Вохелзанг, молодая голландка, которую в материалах к ее воркшопу представили как «фуд-дизайнера». Естественно, после такого представления на ее воркшоп записалось много людей из ресторанного и кейтерингового бизнеса, ожидавших, что им покажут, как сервировать еду на тарелке. Однако им пришлось столкнуться с перформансом: одних участников закутали в белые паранджи с единственной дыркой для рта, а другие сидели напротив и кормили их через дырку, рассказывая истории, связанные с едой; потом участники менялись местами. Вохелзанг называет себя eating designer — «дизайнер еды», причем еда имеется в виду не как продукты, но как процесс питания. В Будапеште она предложила местным цыганкам накормить зрителей своей едой и рассказать свои истории. В Роттердаме она воссоздала блюда, которые готовили почти из ничего в голодные послевоенные времена. В Токио объединила людей, собравшихся за рождественским столом, большой скатертью, превратив ее в их одеяние. Анна Матвеева побеседовала с Марейе Вохелзанг о еде, едоках и отношениях.

Анна Матвеева: Ваше искусство — об отношениях между людьми, но вы рассматриваете их сквозь призму еды, вы «дизайнер еды». Как вы пришли к этому?
Марейе Вохелзанг:Это не было спровоцировано какими-то событиями, просто так сложилось. Возможно, виноват мой личный интерес к психологии. Но не только он: я веду речь еще и о том, откуда берется наша еда и как наши пищевые привычки влияют на мир. Пищевая индустрия — самая крупная индустрия на планете. Нас так много, что наш пищевой выбор определяет, как будет выглядеть мир: сколько в нем будет полей, сколько скотоводческих ферм, будут ли уничтожены дождевые леса — все это мы определяем посредством того, что мы едим.

А.М.: Я участвовала в вашем воркшопе, и вы сказали там фразу, которая меня удивила: что еда интересна вам постольку, поскольку в ней нет элитарности. Но ведь она есть! Разве еда — не элемент классового деления? Разве наша диета не отражает наш социальный статус и еще многие другие наши свойства? Кто-то ест дешевые макароны, а кто-то — лобстеров!
М.В.: Это правда. Но если взять, например, искусство или музыку, они действительно доступны лишь отдельным социальным группам или сделаны специально для них. И хотя вы правы, и между высокой и низкой пищевой культурой огромная разница, всё же мы все едим. Никто не может быть вне питания. Нельзя сказать: «Я не участвую в пищевой культуре»: вы неизбежно в ней участвуете, вы не можете не есть. Можно взять и отказаться слушать музыку, но нельзя взять и отказаться есть. Конечно, посредством пищи мы идентифицируемся со своим классом, народом или религией, и многие религии предписывают весьма жесткие правила питания, тем самым выделяя своих последователей. Но все же я считаю, что еда уравнивает всех нас: все едят, и все после этого ходят в туалет, так что это очень базовая вещь.

А.М.: Во многих ваших работах — на петербургском воркшопе,в «Общем ужине», в «Ешь Люби Будапешт» — вы используете материальный барьер между теми, кто кормит, и теми, кого кормят. Теми, кто рассказывает, и теми, кто слушает. Обычно это ткань, иногда повязка на глаза. Барьер, который блокирует зрение. Зачем он нужен в той ситуации, которую вы создаете?
М.В.: Я не могу привести теоретического обоснования. Но чувствую, что это работает. Я интуитивно пришла к использованию таких барьеров из ткани. Если бы мы смотрели друг другу в глаза, как сейчас, я не могла бы вас кормить, потому что нам обеим было бы ужасно неловко. Когда вы друг друга не видите, можно расслабиться. Скорее всего, я здесь обращаюсь к ощущению безопасности: вы чувствуете себя спокойнее, когда вы чем-то прикрыты и кажется, что никто вас не видит. Даже когда ложишься в постель в жаркую ночь, все равно ведь хочется накрыться хотя бы тонкой простыней: не от холода — в жару можно спать и без покрывала, — а потому что так уютнее, вам нужно это легкое касание ткани, от него спокойнее и лучше.

А.М.: Но ведь есть и обратный эффект. На вашем воркшопе я сидела с завязанными глазами и под простыней, и могу сказать, что в какой-то момент, наоборот, чувствуешь себя уязвимой, потому что не можешь контролировать, что происходит вокруг.
М.В.: Да, это вопрос равновесия. Обычно от участников я слышу: «Сначала было немного страшно, но потом я расслабился, я преодолел эту неловкость». Есть такой психологический барьер: вы испытываете страх, а потом его преодолеваете.

А.М.: Вы работаете с разными степенями интимности. Еда — вещь довольно интимная, почти как секс. Но в то же время еда универсальный способ социальной коммуникации: мы собираемся за столом всей семьей, приглашаем друзей вместе поесть, выходим поужинать в город. Даже сейчас, когда я беру у вас интервью, его сопровождает чашечка кофе. Насколько для вас важна эта двоякость еды, ее интимность и ее социальность?
М.В.: В повседневной жизни у нас сейчас все происходит настолько быстро, что мы теряем связь с самыми базовыми вещами нашей жизни. Мне думается, когда человек умирает, он не станет вспоминать свою карьеру, он будет вспоминать своих детей, супруга, родителей, тех, кто стал частью его жизни. Еда — идеальный клей, соединяющий людей. Мы нередко едим бездумно, и я стараюсь делать так, чтобы люди осознавали самые базовые вещи, я напоминаю им, насколько важной может быть такая простая вещь, как бутерброд, который вы сделали для любимого человека. Мы недооцениваем еду, мы хотим, чтобы она была дешевой и не напрягала нас, и технологии сегодня позволяют нам упростить еду, процесс готовки и время ее поглощения, — и мне очень жаль, что это происходит, ведь это же прекрасные вещи. Подобно этому мы нередко упрощаем наше общение с другими людьми.

А.М.: Как ваше пищевое искусство работает с социальностью? В будапештском проекте вы работали с цыганками, которые готовили еду, кормили ею зрителей и рассказывали свои истории. И вы говорили, что цыгане всегда были народом, который что-то получал от других, — подаяние или дискриминацию, но в вашем проекте они отдают зрителям свои еду и рассказы. Но если еда для вас вещь базовая, как часто вы обращаетесь к ее социальному значению?
М.В.: Я люблю смотреть, как разные виды еды мигрируют по планете. Например, евреи очень много мигрировали, но пронесли с собой свою аутентичную кухню. Приезжаешь в Нью-Йорк — там очень смешанная, «макароническая» еда, сама по себе очень интересная. Забавно, что когда я начала проект с цыганками, я думала, что у них будет своя специфическая кухня, а ее не было, они готовили обычные венгерские блюда. Но потом на первый план вышли личные истории — например, одна женщина выбрала апельсины, потому что с ними у нее была связана история из детства. Это простые, опять же базовые вещи, они мне очень нравятся.
В будапештском проекте деление на социальные группы, разумеется, имело значение. В проектах вроде того, что я представила на воркшопе «Накорми других и поделись секретом» в Петербурге — нет. У любого человека всегда есть история, не социальная, а персональная. Еще меня привлекает возможность рассказать свою историю совершенно незнакомому человеку, которого ты никогда не встречал, чьей истории ты не знаешь и чьего лица ты не видишь. Мне интересно работать с «трудными» социальными группами, но тем не менее я думаю, что своя история есть у каждого. Каждому есть что сказать. И каждый может чувствовать вкус.
Я волновалась, готовя воркшоп для России: я увидела здесь совсем другие лица и другую культуру. Но в итоге все равно все всё понимают, потому что я говорю о вещах, общих для всех: о еде, о памяти. Поезжайте хоть в Африку, хоть на край света: у людей там все равно будет память, и память будет связана с едой, может, несколько иначе, но в целом это работает у всех людей. Это общее для рода человеческого, и мне нравится, что это общее — такое простое.

А.М.: Вы собираете истории, работаете дальше с их содержанием, или вам важнее сам факт взаимосвязи между людьми?
М.В.: Я не слушаю, кто какие истории рассказывает во время проектов, я физически в другом месте в это время. Тут не я важна, а тот опыт, который участники получают, а я лишь облегчаю сближение. Возможно, если бы это был перформанс, в котором я сама участвовала бы, я собирала бы их истории. Но у нас был воркшоп, так что все просто шло своим чередом. Воспоминания ведь принадлежат самим людям. В Роттердаме я готовила еду по рецептам послевоенных лет, эпохи голода. Я всего лишь хотела, чтобы люди попробовали ту эпоху на вкус, у меня не было намерения влезать в чью-то память, но это случилось само собой: старики, пережившие тот голод, восклицали: «О! Я помню, точно такое же мы с братиком тогда ели!» Это оказался очень эмоциональный опыт, возможно, для кого-то даже болезненный, но одновременно очень ценный, потому что выявил память, о наличии у себя которой эти люди даже не знали. Кстати, а вам какую историю рассказали?

А.М.: Моя визави, скорее всего, была совсем юной девушкой, она рассказала историю из школьных лет: их класс поехал в Германию, и там они объедались местной едой, которая для них была в новинку, была экзотикой. Но через неделю они все ужасно заскучали по черному хлебу, и были счастливы, когда у одного мальчика в рюкзаке нашелся пакет ржаных сухариков, который они разделили на всех. И она кормила меня черным хлебом и немецким сыром.
Я, в ответ, рассказала свою трудоголическую историю: у меня бывали времена, когда над каким-то проектом приходилось работать почти круглосуточно, не оставалось времени ни поспать, ни поесть, ни тем более готовить, и сил хватало только на минутную лапшу. Сейчас я смотрю на «Доширак» с ужасом, но в то же время он ассоциируется у меня с очень продуктивными и захватывающими периодами жизни. Так что я скормила своей слушательнице чуть-чуть сухой лапши – но потом, за ее терпение, гораздо больше клубники и черешни.
И вот это соединение еды и исповеди подталкивает меня к вопросу: ведь в большинстве ваших проектов еда выступает реквизитом, инструментом, который позволяет человеческим историям прозвучать, позволяет межчеловеческим отношениям возникнуть. Вы не думаете, что когда-нибудь она уже не будет вам нужна, и вы будете заниматься только людьми?
М.В.: Не думаю, потому что еда хороший повод. Еда всем нравится. Думаю, мне всегда будет хотеться работать с едой, я ее люблю, и все ее любят. Мне нравится предоставлять людям особый опыт, и важен именно опыт, но еда — отличный помощник.

А.М.: Последний вопрос, я не могу его не задать. Вы постоянно имеете дело с едой. Как вам удается быть такой стройной?
М.В.: Ха-ха-ха! Я люблю поесть. Я стараюсь не есть сахар, хотя только что положила его в кофе, потому что не взяла с собой подсластитель. Я больше не пью коровье молоко, пью соевое или рисовое. Главной революцией в питании для меня было отказаться от углеводов: я не знала, что это нужно делать, потому что в Голландии государственная политика поощряет потребление хлеба и картошки как основу здорового питания. Часто можно встретить схему здоровой еды в виде треугольника, и в его широком основании будут углеводы, хотя это совершенно неправильно.

А.М.: Государственная? Государство говорит людям, что им есть?
М.В.: Да, например, в школах обучают правильному питанию, дают советы. У вас такого нет?

А.М.: Не знаю… вряд ли. Но пищевая политика в масштабах страны — очень интересная штука, и интересно, как пищевые установки меняются со временем. У меня есть «Книга о вкусной и здоровой пище» 1955 года, библия советских хозяек. Ее писали ученые, диетологи, и в ней пищевая ценность продуктов основана на содержании углеводов и жиров: чем жирнее молоко или рыба, тем выше считалось их качество. Нормы ежедневного потребления калорий процентов на 30 выше современных. Это напрямую связано с образом тела: идеальное тело той эпохи заметно весомее современного идеала, а уж ребенок был просто обязан быть пухлым.
М.В.: Я люблю историю еды. Она связана с тем, как менялись общество и семья. Раньше женщины сидели дома и готовили. Потом они стали работать, и случился бум индустрии готовой еды и полуфабрикатов. Это логично. Но странно то, что у нас ведь должна была образоваться масса свободного времени с тех пор как машины освободили нас от готовки и работы по дому, — но нет, наоборот, нам времени все больше и больше не хватает, мы стали гораздо более заняты. Удивительно.
В оформлении материала использована фотографии, опубликованные на сайте sightunseen.com и designtripper.com