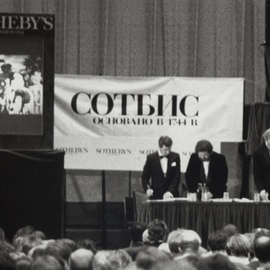Вальтер Беньямин. О коллекционерах и коллекционировании
Новое издание фонда V—A-C объединило три важнейших сочинения немецкого философа и историка культуры Вальтера Беньямина, посвященных теме коллекционирования и фигуре самого коллекционера. Героем эссе «Эдуард Фукс: коллекционер и историк» стал именно собиратель — Фукс, страстный поклонник эротического искусства, при этом был известным интеллектуалом первой половины XX века, писателем и сторонником марксизма. С любезного разрешения издателя «Артгид» публикует фрагмент этого эссе.
 Вальтер Беньямин. Источник: stylis.rosphoto.com
Вальтер Беньямин. Источник: stylis.rosphoto.com
Психолог не может обойти вниманием вопрос о том, как получилось, что энтузиаст, позитивно настроенная натура, увлекся карикатурой. Психолог объяснил бы это склонностью — когда дело касается Фукса, факты не оставляют в том сомнения. С самого начала интерес Фукса к искусству не имел ничего общего с тем, что принято именовать «радоваться прекрасному». С самого начала не обходилось без вопроса об истине. Фукс неустанно подчеркивает, что карикатура — это ценный источник, авторитетный свидетель. «Истина заключена в крайностях», — сказал он как-то. Более того: карикатура для него «в некотором роде форма… от которой происходит всякое объективное искусство. Достаточно заглянуть в этнографические музеи, чтобы удостовериться в справедливости этого утверждения». Когда Фукс ссылается на доисторические народы, на детские рисунки, понятие карикатуры, возможно, делается проблематичным — однако тем более явным становится пристальный интерес Фукса к грубо-эксцессивным чертам произведения искусства, будь то черты содержательные или формальные. Этот интерес обнаруживается во всех его исследованиях. Даже в его поздней «Пластике эпохи Тан» мы читаем: «Гротеск — это высшая степень чувственно-представимого… В этом смысле гротескные образы вместе с тем являются и выражением пышущего здоровьем времени… Разумеется, не стоит отрицать, что есть и прямо противоположные силы, также порождающие гротеск. Эпоха декаданса и больное сознание тоже склонны к гротескным фигурам. В этом случае гротеск оказывается поразительным отражением того обстоятельства, что некоторым эпохам и личностям проблемы мироздания и бытия представляются неразрешимыми… Какая из этих двух тенденций скрывается за гротескной фантазией в качестве ее движущей силы, можно определить с первого взгляда».
Этот пассаж многое проясняет. В нем особенно ясно отражена причина, по которой работы Фукса имели столь широкое воздействие, были необыкновенно популярны. Дело в его даре сразу же наделять основные понятия, в которых он ведет рассуждение, оценочной добавкой. Часто эта добавка бывает чрезвычайно весома. К тому же его оценки всегда носят радикальный характер. Они привносят полярные характеристики и тем самым поляризуют понятие, с которым сливаются. Это происходит и в описании гротеска, и при рассмотрении эротической карикатуры. В эпохи упадка она оказывается «грязью» и «будоражащей пикантностью», в эпохи подъема — «выражением неуемного стремления к наслаждению и избытка силы». Фукс прибегает то к оценочным понятиям расцвета и упадка, то к противопоставлению здоровья и болезни. Пограничных случаев, которые могли бы поставить под вопрос эти крайности, он избегает. Его страсть — «наивысшее», наделенное привилегией раскрывать «захватывающее в простейшем». Фрагментированные эпохи искусства, такие как барокко, он не очень ценит. Впрочем, Возрождение для него тоже будет великой эпохой. Тут его культ творческого начала одерживает верх над свойственной ему антипатией к классике.

Понятие творческого у Фукса сильно сдвинуто в направлении биологии. И если гений наделяется атрибутами, порой доходящими до приапических, то художники, к которым автор относится сдержанно, часто предстают ущербными в отношении мужественности. Печать подобного биологического подхода обнаруживается в обобщающем суждении Фукса о таких художниках, как Эль Греко, Мурильо, Рибера: «Все трое потому были классическими представителями духа барокко, что каждый из них по-своему был в то же время „негоден“ в эротическом отношении». Не следует упускать из вида, что базовые понятия Фукса формировались в то время, когда «патография» была последним достижением психологии искусства, когда авторитетами были Ломброзо и Мебиус. А понятие гения, наполнявшееся в то же время богатым наглядным материалом из влиятельной «Культуры Ренессанса» Буркхадта, подпитывалось из других источников столь же широко распространенным убеждением, что творчество — это прежде всего проявление избытка сил. Сходные тенденции привели Фукса позднее к представлениям, родственным психоанализу; он был первым, кто применил их в искусствознании.
Бурность чувств, непосредственность, свойственные, согласно такому взгляду, художественному творчеству, в неменьшей мере определяют и то, как сам Фукс трактовал произведения искусства. Часто ему нужно совсем немного, чтобы перескочить от апперцепции к суждению. Действительно, «впечатление» для него — не только само собой разумеющийся импульс, получаемый зрителем от произведения, но и категория самого зрительного восприятия. Когда Фукс, например, демонстрирует критическую сдержанность по отношению к формализму эпохи Мин, то резюме его заключается в том, что произведения этого времени «в конечном итоге… не только не превосходят, но даже и не достигают воздействия… которое, например, эпоха Тан производит… своими основными вещами». В результате в своих текстах Фукс приходит к особому, аподиктичному, если не сказать грубовато-простецкому стилю, особенность которого он сам мастерски обозначает, заявляя в «Истории эротического искусства»: «От верного чутья до верной и полной расшифровки действующих сил произведения искусства — всего один шаг». Не каждому такой стиль по плечу; Фуксу пришлось заплатить за него свою цену. Если обозначить эту цену одним словом: он был лишен способности вызывать изумление. Не приходится сомневаться, что он ощущал этот дефект. Он самыми разными способами пытается его компенсировать, ни о чем он не говорит так охотно, как о тайнах, которыми он занимается в психологии творчества, о загадках хода истории, отгадку которых следует искать в материализме. Однако стремление трактовать факты самым прямым образом, определявшее и его концепцию творчества, и концепцию восприятия, побеждает в конце концов и в анализе. Ход истории искусства представляется ему «необходимым», черты стилей представляются ему «органичными», и даже самые причудливые порождения искусства — «логичными». Они не становятся таковыми в результате анализа, а, создается впечатление, оказываются такими уже до того — как те же сказочные существа эпохи Тан, которые со всеми своими крыльями-пламенами и рогами представляются «абсолютно логичными» и «органичными». «Логичными кажутся даже огромные слоновьи уши, как и поза… Никогда речь при этом не идет о просто сконструированных понятиях — это идея, которая обрела дышащую жизнью форму».

Здесь обнаруживаются взаимосвязи представлений, теснейшим образом связанные с социал-демократическим учением той эпохи. Известно, сколь глубоким было воздействие дарвинизма на развитие социалистического понимания истории. Во время бисмарковских репрессий это воздействие поддерживало неколебимую веру партии в собственные силы и ее готовность к решительной борьбе. Позднее, в период ревизионизма, эволюционистский взгляд на историю тем больше перекладывал ответственность на «развитие», чем меньше партия готова была рискнуть тем, что добыто в борьбе с капитализмом. История приобретала детерминистичные черты; победа партии «была неминуема». Фукс всегда был далек от ревизионизма; его политический инстинкт, его воинственная натура вели его на левый фланг. Однако как теоретик он не мог избежать влияния этих идей. Их воздействие ощущалось повсюду. В то время люди вроде Ферри сводили не только принципы, но и тактику социал-демократии к законам природы. Анархистские настроения он объяснял недостаточными познаниями в геологии и биологии. Разумеется, такие вожди, как Каутский, боролись с этим уклоном, однако многие удовлетворялись тезисами, делившими исторические процессы на «физиологические» и «патологические» или утверждавшими, что естественнонаучный материализм в руках пролетариата «самопроизвольно» перерастает в материализм исторический. Точно так же прогресс человеческого общества предстает у Фукса процессом, который «столь же мало можно сдержать, насколько мало можно остановить ледник в его постоянном продвижении». Детерминизм соединяется с неунывающим оптимизмом. Конечно, без уверенности в себе ни один класс не может активно и успешно надолго войти в политику. Разница, однако, состоит в том, относится ли оптимизм к энергии класса или к условиям, в которых он действует. Социал-демократия склонялась ко второму, сомнительному роду оптимизма. Перспектива наступающего варварства, которая мелькала то у Энгельса в его «Положении рабочего класса в Англии», то у Маркса в его прогнозе развития капитализма, а сегодня привычна даже для посредственного политика, была закрыта для эпигонов рубежа XX века. Когда Кондорсе пропагандировал учение о прогрессе, буржуазия шла к власти; совсем в другом положении находился столетие спустя пролетариат. Идея прогресса могла пробудить в нем иллюзии. Эти иллюзии и в самом деле образуют тот фон, который история искусства Фукса то и дело приоткрывает. «Сегодняшнее искусство, — полагает он, — подарило нам сотни свершений, в самых разных отношениях намного превосходящих достижения искусства Возрождения, а искусство будущего, в свою очередь, безусловно, должно подняться еще выше».