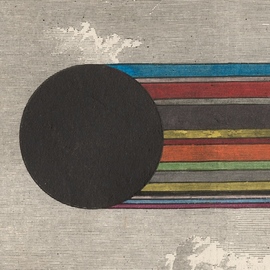«Род человеческий»: визуальная Всеобщая декларация прав человека
«Род человеческий» (The Family of Man) — знаменитая американская фотовыставка, созданная в 1955 году главой отдела фотографии Музея современного искусства в Нью-Йорке Эдвардом Стайхеном. Долгое время интерпретация этого проекта определялась критическим эссе Ролана Барта («Великая семья людей», 1956), который увидел в универсалистском пафосе Стайхена (выставка включала 503 фотографии из 68 стран) только лишенную смысла лирику. Однако в 2013 году была опубликована статья куратора и теоретика фотографии Ариэллы Азулай «“Род человеческий”: визуальная Всеобщая декларация прав человека», предложившая иной взгляд на это событие (оба текста обсуждались в январе рамках публичной программы к выставке Владислава Шаповалова «Дипломатия образа» в MMOMA). «Артгид» публикует перевод статьи Ариэллы Азулай, в которой она показывает, каким ленивым зрителем оказался Барт и почему представленное на выставке многообразие ситуаций и судеб не сводится к утверждению мифического единства, а, напротив, является визуальным требованием всеобщих прав.
 Уинн Баллок. Ребенок в лесу. Фрагмент. 1951. Серебряно-желатиновая печать. Музей современного искусства, Нью-Йорк. © Estate of Wynn Bullock
Уинн Баллок. Ребенок в лесу. Фрагмент. 1951. Серебряно-желатиновая печать. Музей современного искусства, Нью-Йорк. © Estate of Wynn Bullock
Выставка 1955 года «Род человеческий», куратором которой был Эдвард Стайхен, стала вехой в истории фотографии и прав человека[1]. Ее увидели миллионы зрителей по всему миру; в то же время критика в адрес выставки — ключевым автором здесь является Ролан Барт — стала парадигматической в области визуальной культуры и критической теории[2]. Переосмысление этой выставки сегодня нужно начинать с проблематизации точных и влиятельных наблюдений Барта и его роли как зрителя. Барт подверг критике и фотографический материал, и то, что он назвал невидимыми идеями — довольно странный термин, поскольку скрытая идеология, которую Барт приписывал выставке, совпадала с теми целями, которые Стайхен явным образом заявлял как куратор[3]. Вместо того чтобы, как Барт, считать Стайхена всемогущим автором, я предлагаю присмотреться к возможностям, которые содержала в себе выставка; вместо того чтобы рассматривать фотографии как дескриптивные утверждения с претензией на универсальность, я предлагаю считать их нормативными утверждениями, содержащими требование всеобщих прав. Сегодня, когда нас захлестывает нескончаемый поток фотографий, запечатлевающих нарушения прав человека по всему миру, я предлагаю вернуться к этой важнейшей выставке, которую посетили миллионы людей[4], как к переломному моменту в истории взаимосвязи фотографии и прав человека; к архиву, содержащему визуальный аналог Всеобщей декларации прав человека ООН 1948 года.
В своем знаменитом эссе 1956 года, посвященном выставке, Барт писал, что это «фотовыставка, имеющая целью показать, что люди всех стран мира в повседневной жизни совершают одни и те же поступки. В рождении и смерти, в труде, познании и игре человек всюду ведет себя одинаково»[5]. Но одно из первых моих впечатлений от выставки — многообразие; несмотря на сходство ситуаций на фотографиях, представленных в разных разделах, они не утверждают единую модель поведения.
Принимая фотографию всерьез и рассматривая ее как событие встречи, я проанализирую, что значит «быть сфотографированным», чтобы показать: выделенные Стайхеном разделы, например «Труд» или «Семья», не могут стереть гетерогенность запечатленных на фотографиях ситуаций в разных геополитических контекстах.

Так, ряд фотографий объединены в раздел «Труд». Гребцы, действующие согласованно, олицетворяют коллективную работу (фотограф Альфред Эйзенштадт. The Family of Man. P. 77). Запечатленные со спины, они игнорируют фотографа. Конечно, кто-нибудь из них может вдруг обернуться и заметить камеру — в худшем случае это приведет к секундной заминке в общем деле.
Люди, запечатленные на соседней фотографии, едва ли взглянут в камеру. Какой бы ни была ситуация, в которой был сделан снимок Дмитрия Кесселя (The Family of Man. P. 76), фотография заставляет вспомнить о принудительном — рабском — труде и олицетворяет его.
На фотографии из Пакистана, сделанной Абдулом Разаком (The Family of Man. P. 70), горные работы по прокладке туннеля выглядят не менее тяжелыми, и все же сохраняется возможность не сводить индивидуальность исключительно к работоспособности. Трое рабочих справа с любопытством смотрят в объектив.
Фотография Вальтера Сандерса (The Family of Man. P. 73) изначально была опубликована в журнале Life. Журнальная подпись к фотографии, не включенная в выставку, гласила: «Портрет кузнеца Гуго Рутца с сыном Гуго-младшим. Рутц-старший отказался вступать в нацистскую партию». Люди на фотографии не смотрят в камеру, но позируют для нее. Это постановочный снимок: оба героя взаимодействуют с фотографом, чтобы представить новую-старую немецкую идентичность через возрождение традиционных профессий.
Знаменитая серия групповых портретов в разделе «Семья» демонстрирует не меньшее разнообразие. Обратите внимание на портреты предков на заднем плане в работе Нины Лин (The Family of Man. P. 58) и на будто бы отсутствие «культурных» знаков в портрете из Бечуаналенда, сделанном Нэтом Фарбманом (The Family of Man. P. 59)[6]. Эти две фотографии обычно интерпретируют как свидетельство противопоставления культуры и природы, лежащего в основе выставки в целом. Но так ли самоочевидно это толкование? И необходимо ли?
Интерпретацию, приписывающую семье из Бечуаналенда пассивность — словно они лишь глина в руках фотографа, расставившего их так, чтобы они соответствовали его личному видению, — легко опровергнуть. Члены этой семьи играют с властью камеры и воплощаемого ей гипотетического зрителя, в то время как на снимке американской семьи следование правилам гораздо заметнее. Все члены этой семьи от мала до велика улыбаются в ответ на просьбу «сказать чи-из!», — следуя команде представить идеальный образ своей семьи. Ни противопоставление культуры и природы, ни какое-либо иное противопоставление не вписано в эти снимки и не может служить основой для интерпретации того, как они соотносятся между собой. Обе фотографии заставляют задуматься об отношениях власти в семье и о необходимости сохранять и защищать их в рамках любого нового общественного договора.
Чтобы суммировать эти многочисленные противоречия, я обращусь к фотографии, открывающей каталог выставки. Многие критиковали этот снимок как постановочный — как будто «снимок человека» в принципе может быть полностью постановочным[7]. Американская девочка в одиночестве лежит в лесу на земле. Эта фотография размещена в первом разделе выставки вместе с другими работами, демонстрирующими всепобеждающую силу природы. Ей предшествует фото сумрачной реки, бегущей по горной долине. В каталоге фотография девочки стоит первой. Ее тело, отражающее свет неизвестного источника, шрамом белеет на лесном покрове. Из огромного множества критиков и рецензентов почти никто не задался вопросом, почему первым представителем «рода человеческого», которого видит зритель, стала голая маленькая девочка, лежащая ничком на покрытых росой листьях. Что с ней произошло? Почему она лежит на земле голая и брошенная? Где ее одежда? Была ли она изнасилована? Избита? Является ли снимок аллегорией изнасилования, обозначающей порог терпимости к нему? Или же его задача — сделать присутствие голой девочки в художественном пространстве нормальным? Неважно, какую аллегорию хотели представить фотограф или куратор; учитывая, что фотография — это практика, в которой участвует и фотографируемый, и зрители, нельзя игнорировать ситуацию создания этого снимка: Уинн Баллок был фотографом-мужчиной, и его проектом были фотографии обнаженных жены и дочери. Девочка на фотографии скоро станет полноправным гражданином, но пока она все еще во власти отца и не может остановить его, когда он фотографирует ее голой.
Единый формат черно-белой фотографии, изображающей людей в якобы схожих ситуациях, на самом деле обнаруживает, насколько они отличаются друг от друга — у каждого из них свое ремесло, их жесты, выражение лица или улыбка указывают на разные миры опыта, которые нельзя обобщить в категориях нации, гендера или расы.
Барту можно было бы возразить, что он проецирует на материал выставки собственные идеи, но, если ознакомиться с предисловием Стайхена, становится ясно, что Барт едва ли не дословно повторяет его слова. Однако то, что Стайхен обозначает как явную цель выставки, желаемый эффект от нее, Барт представляет в качестве критического анализа выставки и той идеологии, в рамках которой она находится. В предисловии, совпадения с которым столь заметны в аналитической заметке Барта, Стайхен пишет: «[Выставка] задумывалась как отражение универсальных образов и эмоций повседневной жизни — отражение всемирного единства человечества»[8]. Удивительно, как легко Барт принимает точку зрения куратора в качестве точного описания самой выставки: «…человек повсюду одинаково рождается, трудится, смеется и умирает, если же в этих актах еще и сохраняется кое-какая этническая особенность, то нам дают понять, что в глубине их все равно заключена одна и та же человеческая "природа", то есть их разность — чисто формальная, не отменяющая существования общей для них всех матрицы»[9]. Здесь Стайхену приписывается едва ли не магическая способность превращать разнообразие, зафиксированное на фотографиях, в универсальное единство или удалять историю и превращать изображения в природу.

Рассмотрим фигуру Барта-зрителя. Он приходит на выставку, смотрит на сотни фотографий и видит в них лишь одно: абстрактные идеи «природы», «универсальности», «единства» и т.д. Как он сам пишет: «Рождение и смерть? Да, это факты природные, универсальные. Но если изъять из них Историю, то о них станет нечего сказать»[10].
Неужели Барт не знает, что идеи невидимы? Что они не существуют в реальности как предметы, на которые можно указать? Барт утверждает, что видит невидимое, но он слеп к тому, что у него перед глазами — и не только по воле фотографов и куратора, но и независимо от нее или вопреки ей. Кроме того, то, что он все-таки видит, он считает чем-то совершенно внешним по отношению к себе, как будто он не играет никакой роли в том, что фотографии превратились в абстракции, как будто кто-то действительно может лишить истории предстающие перед его взглядом предметы и как будто это взаимодействие между ним и фотографируемыми людьми само не является частью истории.
И все же, несмотря на эти недостатки бартовского текста, я предлагаю задержаться на нем, поскольку именно он в течение долгого времени определял интеллектуальную рецепцию выставки и задавал тон ее критике[11].
Хотя поспешные выводы Барта упускают гражданский потенциал фотографии, его точные концептуальные наблюдения следует учитывать в любом исследовании выставки Стайхена, поскольку они обозначают как раз ту позицию, которой следует избегать. Что бы ни писали критики, миллионы людей посетили выставку, и большинство — независимо от того, понравилась она им или нет, — понимали, что ее центральная тема — тема универсальности.
Барт видел различия, когда имел дело с «письмом». Но когда речь зашла о фотографии, он как будто забыл свою собственную идею о невозможности свести письмо к единственному источнику (сформулированную в его знаменитом тексте «Смерть автора»). Если он и отметил разнообразие фотографий, то лишь формальное, или морфологическое:
Данный миф действует в два приема: сначала утверждается разнообразие человеческой морфологии, всячески эксплуатируется тема экзотики, демонстрируется бесконечное множество вариаций в пределах нашего рода — несходства в цвете кожи, в форме черепа, в обычаях; мир всячески уподобляется вавилонскому столпотворению А затем из этого плюрализма магически извлекается единство: человек повсюду одинаково рождается, трудится, смеется и умирает[12].
С точки зрения Барта, зрители не могли увидеть эти различия из-за способности Стайхена скрыть их за одной-единственной идеей: своей собственной. В тексте Барта куратор предстает всемогущим автором, а посетители выставки — бессильными читателями/зрителями. Беспокоясь, что зрители могут обнаружить различия, Барт призывает их признать стоящее за различиями единство. Но даже если именно это и хотел показать Стайхен, выставку фотографий нельзя свести к голосу куратора. Сколь бы сильным ни был голос Стайхена, это лишь один из возможных голосов, который к тому же сам умножается, раскалывается и несет в себе противоречия — а голоса, исходящие от фотографий, таковы в еще большей степени.
Подобные противоречия заметны на фотографии, помещенной в одном из последних разделов выставки, который Стайхен озаглавил «Правосудие». Фотография Нэта Фарбмана (The Family of Man. P. 172) содержит требование. Женщина обращается к кому-то за пределами снимка. Ее обвинили в преступлении и судят, по правую и левую руку от нее сидят полицейские. Однако на фотографии именно она чего-то требует. Женщина убила мужа, обманувшего ее, скрывшего свою связь с другой и двойную жизнь, о которой она ничего не знала. Как правило, в случае «преступлений, совершенных в состоянии аффекта», суд оправдывает мужчин. Но тогда на этом основании была оправдана женщина. На этой и на многих других фотографиях, включенных в выставку, приходится пересматривать права запечатленных людей в рамках нового общественного договора, выходящего за рамки семейной сферы: право мужа соединить жизнь с другой женщиной и право жены не находиться в ситуации, когда в ее жизни участвуют другие женщины, даже если она не знает об их существовании. В контексте выставки — но и в контексте гражданского статуса женщин в то время — решение Стайхена представить женщину, обвиненную в убийстве, как заявителя было смелым. Учитывая угнетение женщин и их подчиненное положение в рамках брачного договора, справедливость требует чего-то большего, чем просто писаные законы.
Хотя фотографии в каталоге и на выставке не сопровождались дополнительной информацией, которая позволила бы больше узнать о ситуации их создания, они все же не были лишены истории. Да, такой способ презентации дает больше власти куратору и делает снимки более загадочными: нечто вроде теста Роршаха для зрителей, которые могут позволить фотографиям говорить самим или же проецируют на них свои мысли и опыт. И все же, какой бы ни была власть куратора, фотографии — не просто послушная глина в его руках. Они сохраняют следы взаимодействия разных участников; ни фотографируемых людей, ни зрителей невозможно полностью подчинить воле и желаниям одного человека.
В действительности это отсутствие информации как раз и делает выставку полной противоположностью тому, в чем ее и ее зрителей часто обвиняли: якобы публике нравится, когда ее кормят с ложечки.
Фотографии предстают перед зрителем без сопровождения: никаких ложечек и никакой явной, доступной информации, которая помогла бы составить впечатление о каждой из них. От зрителя требуются серьезные интерпретативные усилия: подписи к фотографиям ограничиваются именем фотографа и местом, где был сделан снимок.
Имя фотографа информативно, но указание на место уже несет множество деталей и в некоторых случаях позволяет реконструировать насилие со стороны национального государства, правящего режима или колониализма. К примеру, Корея представлена снимком американского солдата, выполненным американским фотографом Дэвидом Дунканом (The Family of Man. P. 178). Местом, где была сделана фотография Джона Филипса, указана Палестина, которая, как подразумевает решение куратора, таким образом оказывается страной наряду с другими — вопреки всеобщему признанию суверенного государства Израиль, основанного на руинах Палестины (The Family of Man. P. 122).

Вместо того чтобы сохранять национальное государство в качестве стабильной единицы и критерия сравнения, который выявит значительные различия между отношениями власти в разных странах, зритель может по-другому отнестись к тому, что видит. Он может отказаться сохранять границы национальных государств (которые выставка время от времени ставит под сомнение) и обратить внимание на произвольность и изменчивость разграничений между нациями; воспользоваться, пусть в ограниченной форме, возможностями мирового гражданства; попытаться преодолеть национальные границы как место суверенной власти; и наконец, вообразить другие формы совместной жизни, которые предоставляют гражданам больше преимуществ, чем нации.
Демонстрация фотографий без сопроводительного текста отсылает к знакомой идее о том, что «изображение стоит тысячи слов». Но в нашем случае, хотя фотографии и наделяются особым статусом по отношению к тексту, каждая из них выставляется не как самодостаточная. Напротив, все фотографии экспозиции тесно связаны с соседними снимками; при этом возникает множество разнообразных сочетаний, ни одному из которых не отдается преимущество перед другими.
На снимках, где запечатлена сама экспозиция, ясно просматривается, что, попадая в пространство выставки, зритель видит фотографии как часть сложной и неоднозначной структуры. Множество фотографий разного размера, «динамическая» экспозиция, прикрепленная к потолку в центре выставочного пространства, слои, создаваемые панелями из прозрачного пластика, — все эти особенности организации выставки не позволяют каждой отдельной фотографии превратиться в метонимию, метафору, аллегорию или слепок целого. Напротив, каждая фотография существует внутри образованного другими снимками единого пространства, задающего контекст, в котором фотография располагается, является зрителю, упорядочивается.
Отбирая, сортируя, подгоняя размер, каталогизируя и редактируя, куратор и его команда стремились подчеркнуть некоторые аспекты и контексты, повышая вероятность того, что зритель обратит на них внимание. Но другие контексты — часть из них куратор мог увидеть, а часть пропустить — создаются зрителями: это результат их собственной редакторской работы в пространстве выставки.
Черно-белые фотографии выставки почти автоматически ассоциируются с документальным жанром, и поэтому их просмотр без какой-либо дополнительной информации оставляет чувство неудовлетворенности и неполноты. Однако тот факт, что все фотографии экспонируются таким образом, позволяет нам задать вопрос: не является ли то, что мы видим, примером другого жанра, который иным способом задействует фотографический материал?[13] Отсутствие дополнительных подробностей в случае каждой отдельной фотографии очевидно. Но возведенное в систему, не делающее исключений ни для одного изображенного человека или места, такое отсутствие позволяет прочитывать эти фотографии как утверждения, объединенные в текст, который говорит о чем-то большем.
Даже если Стайхен стремился с помощью этой композиции выразить «универсальность», его цель была недостижима. Как уже говорилось, универсальность — это идея, лишенная телесности и формы. Поэтому неверно приписывать универсальность содержанию фотографий. Универсальность может быть выражена через многообразие запечатленных ситуаций и их сочетание. Выставка в целом считывается как серия нормативных утверждений, содержащих требование универсальных прав. Публика, художники, кураторы и исследователи, обнаружившие в экспозиции идею универсальности, превратили эту выставку в значимое событие истории фотографии и универсалистского дискурса — не только своей реакцией, но и уже тем, что посетили ее. С моей точки зрения, выставка представляет собой образец нового, незнакомого жанра, имеющего прецеденты в виде текстов, но впервые облеченного в визуальную форму: жанра всеобщей декларации.
Декларация — это декрет, приказание, эдикт или постановление. Она является обязательной — или должна быть обязательной — для тех, к кому обращается. Это решение, объявленное публично, заявление, оглашение [promulgation] (от латинского promulgare, складывающегося из pro — «вовне, публично» и mulgare — «извлекать»). Это заверение, утверждение, настояние, требование, признание, гарантия, протест, возражение, жалоба, несогласие, вызов, конфликт и возмущенный возглас.
Я хочу дать характеристику этому специфическому жанру для того, чтобы проложить дорогу для будущих деклараций, и для того, чтобы воспользоваться его важной особенностью, а именно его статусом незавершенного текста. Жить вместе значит переписывать и дополнять этот текст. Всеобщая декларация прав человека сложилась после Второй мировой войны, но не в меньшей степени она была откликом на другие катастрофы: войны в Кашмире, Южной Африке, Японии, Китае и Палестине. Она возникла в разломе, созданном этими войнами и катастрофами, разочарованием в существующих политических режимах и поиском новых горизонтов жизни вместе. Я попытаюсь представить этот новый жанр и некоторые его ключевые особенности, указав на элементы композиции, созданной Стайхеном, которые позволили декларации проявиться в этой выставке.
Исследование жанра всеобщей декларации начинается с вопроса о том, что осуществляет выставка. Как уже упоминалось, она не предлагает исторического нарратива. Более того, история представлена в выставке не в форме «того, как обстоят дела», а достаточно произвольно, в виде серии неоднозначных ситуаций и разграничений, которые как раз в силу их произвольности можно помыслить и организовать иным способом. Возьмем фотографию женщины, стоящей на коленях и моющей пол (фотограф Барбара Морган. The Family of Man. P. 80). Да, это фотография чернокожей женщины, часами моющей пол на коленях в маленькой темной квартире[14]. Но не менее тяжелое впечатление производит фотография белой девушки на той же странице каталога, сделанная Биллом Брандтом (The Family of Man. P. 80): рабочий фартук указывает на запрещенный детский труд.

Чернокожая женщина — единственная из работающих женщин на выставочных снимках, кто поднимает укоризненный или, во всяком случае, недовольный взгляд на человека, который стоит над ней, и обращается к нему с каким-то требованием. В восприятии зрителя ситуация этой женщины подчеркивается соседством с фотографией белой девушки: они остались наедине с сизифовым трудом домашней работы; но рядом — фотография Эмиля Обровского, запечатлевшая группу женщин на берегу реки: их товарищество, свежий воздух и прохладная вода делают стирку белья не такой тяжелой, хотя женщины тоже стоят на коленях (The Family of Man. P. 80). Хотя мы ничего не знаем о героинях снимков — может быть, я ошибаюсь, приписывая чернокожей женщине недовольство условиями ее работы или считая белую девушку работающей за деньги, а не, к примеру, помогающей матери, — эти отдельные ошибки при всей их важности для личной истории меркнут перед другим вопросом: условиями женского труда. Дело не в документации этих условий в каждом конкретном случае и не в их идеализации, но в их совокупности, создающей правило. Даже просто сравнивая множество неидеальных и схожих ситуаций по всему миру, можно задуматься о том, каковы условия каждой из этих ситуаций.
Другими словами, вместо того чтобы воспринимать каждую отдельную фотографию в документальном ключе как демонстрирующую условия жизни конкретной женщины, я предлагаю интерпретировать совокупность снимков как неполный спектр способов существования, ситуаций и форм насилия, в которых люди обнаруживают себя. В отличие от Барта, который видит в гетерогенной совокупности фотографий лишь «вековечную песню», я утверждаю, что сопоставление нескольких вариаций одной темы позволяет нам увидеть все разнообразие: от оптимальных ситуаций, которые надо всесторонне приветствовать, до таких, которые требуют вмешательства, исправления, урегулирования, предотвращения и запрета. Как одна из черт жанра декларации, отсутствие информации о фотографиях позволяет увидеть связь ситуации, запечатленной на снимке, и ее исторического контекста как совершенно произвольную, а значит, обратимую. Это «подвешивание» фактических сведений, нередко манипулятивное и угнетающее, в данном случае, напротив, оказывается плодотворным и продуктивным в контексте визуальной декларации, в которой универсальность предстает целью, горизонтом, а фотографии демонстрируют степень приближения или отдаления от нее. К примеру, кто-то будет настаивать, что фотография бушменов лишена культурных атрибутов, но трудно не заметить, что в рамках выставки эта процедура устранения культурных особенностей применена к представителям всех наций и не предназначена для выстраивания иерархии. На этой выставке все становятся «бушменами». Некоторые снимки отражают тот или иной стереотип о женщинах, или о неграх, или о репрезентации противоборствующих сторон в холодной войне (СССР от Роберта Капы и США от Лумис Дин). И все же движение означающих в среде различных групп населения и географических/культурных локаций показывает, насколько случайны они для одних и неслучайны для других, — и это не позволяет приписать тем или иным группам какие-то сущностные характеристики.
Итак, я обозначила три процедуры, характерные для выставки: абстрагирование от конкретной информации; сопоставление ситуаций, позволяющее реконструировать соотношение между оптимальными состояниями и состояниями эксплуатации, причинения ущерба; установление контингентной связи между этими ситуациями и их геополитической привязкой. Это позволяет мне назвать выставку уникальным ресурсом для составления визуальной Всеобщей декларации прав человека: неприкосновенных прав.
Некоторые из этих прав хорошо известны, другие появились недавно; некоторые носят позитивный характер, другие — негативный. Когда проступают очертания исторического контекста, права, которых можно требовать благодаря этим фотографиям и с их помощью, становятся менее абстрактными, чем те же требования, выраженные в письменной форме. Свободу перемещений воплощает фотография двух мальчиков с разным цветом кожи, снятая Генри Лейтоном в США (The Family of Man. P. 136); свободу собраний — фотография стоящих кружком девушек, которые обсуждают какие-то впечатления и обнаруживают общность взглядов: потом они смогут претворить ее в гражданские требования (фотограф Эстер Бабли. The Family of Man. P. 163); право женщин в Южной Корее протестовать против разделения страны (фотограф Майкл Ружье. The Family of Man. P. 169); право на образование для взрослых или право мигрантов на обучение иностранному языку (фотограф Дэвид Сеймур. The Family of Man. P. 122); право помнить свое прошлое и не скрывать его от других (фотограф Маргарет Бурк-Уайт. The Family of Man. P. 140); право не фотографироваться обнаженной, если твой отец фотограф (фотограф Уинн Баллок. The Family of Man. P. 5).
Права, которые могут быть выражены с помощью фотографий выставки, — это не обязательно права далеких Других. Каждый из снимков выдает хрупкость положения человека. Если воспринимать выставку как декларацию, то кажется, что никто не защищен. Но, признавая хрупкость каждого и возможность стать жертвой, нужно признать и способность каждого стать преступником. Эта возможность должна быть включена в дискурс прав человека в форме права не быть преступником. Я утверждаю, что новая декларация прав человека должна быть основана на следующем предположении: с каждым нарушением прав человека нарушается и другое право — право не быть преступником. Требование прав должно включать право не быть преступником в качестве условия всех остальных прав. Иначе от обладающего правами гражданина прямая дорога к тому, кто нарушает права других.

Декларация с претензией на универсальность, способная выразить людские надежды и стать отправной точкой в регулировании человеческих жизней, не может быть документом за авторством одного человека[15]. От Декларации прав человека и гражданина, принятой французской Национальной ассамблеей в 1789 году, к Декларации прав женщины и гражданки, написанной Олимпией де Гуж в 1791 году, и Всеобщей декларации прав человека ООН — жанр декларации приобрел черты палимпсеста. Это не только результат совмещения и соединения множества голосов — декларация должна быть сформулирована достаточно широко, чтобы новые голоса смогли повторить ее и таким образом использовать в своих интересах, но она должна и переписываться, чтобы отвечать новым реалиям.
К трем уже упоминавшимся процедурам, характерным для выставки, следует добавить еще одну: систематическое дистанцирование от идеи суверенитета. Все вместе они создают в этой визуальной декларации впечатление многообразия. Выставка впервые после Второй мировой войны и катастроф 1940-х годов пытается учредить общественный договор не через обезглавливание суверена, а через вычеркивание его ключевых означающих. Она создает пространство, где люди, на собственном опыте знакомые с культурой, которая мобилизовала их для тотальной войны и подчиняла их личным амбициям лидеров, говоривших от их имени, могут представить себе возможность иного мира. То, что они представляют, — не утопия и не идеализация, но возможность восстановить условия, чтобы быть вместе в общем мире и для него. Здесь суверенные нации не проводят разделительные линии, превращающие бытие-вместе в бытие-против: друг против друга и против мира, в котором живет каждый из нас.
«Род человеческий» — выставка без фотографий глав государств, где армия — не способ поддержания порядка, солдат — не герой, а выживший или погибший, как на фотографии Эла Чанга (The Family of Man. P. 149); на снимке Роберта Джейкобсена само присутствие солдата — угроза гражданскому порядку и всему миру ребенка (The Family of Man. P. 53). Выставка стремится отодвинуть нации, религии и национальную политику на задний план, чтобы сделать их частью гражданского существования, которое они не могут полностью подчинить себе или организовать.
Я проиллюстрирую это анализом фотографии ООН, которая помещена ближе к концу выставки (фотограф Мария Борди). ООН: мечта и злоупотребление ею[16]. Впервые мечта о негосударственном или надгосударственном органе, который стал бы главным мировым трибуналом, возникла в текстах мыслителей XVIII века, таких как де Гуж, Кант и Бентам. Каждый из них по-своему описал опасность, которую несут с собой «естественные» границы суверенных государств, и предложил средства защиты, планы побега и способы преодоления неприкрытой и непосредственной власти государства. В фотографии с момента ее изобретения также видели потенциал, который позволяет ей стать основой надгосударственных гражданских отношений. Вальтер Беньямин дал этому потенциалу точную характеристику: «…фотографические снимки начинают превращаться в доказательства, представляемые на процессе истории. В этом заключается их скрытое политическое значение»[17]. Но с XIX века могущественные суверенные государства использовали идею надгосударственного образования, которая могла бы стать гражданской идеей, как способ укрепить логику суверенного национального государства и обеспечить его всемирную экспансию.

ООН, как и Лига Наций до нее, несет ответственность за планирование, установление и легитимацию разграничений и депортаций, в результате которых миллионы людей лишаются дома ради того, чтобы поддерживать, создавать и умножать национальные государства. Но той же ООН пришлось взять на себя хотя бы частичную ответственность за положение перемещенных лиц и предпринять конкретные практические шаги для помощи им. Так, вскоре после принятия катастрофической по своим последствиям резолюции по разделу Палестины было создано специальное агентство ООН, занимающееся исключительно помощью беженцам, появившимся в результате действия этой резолюции. Допустим, Стайхен все еще верил в гражданскую, негосударственную роль этой наднациональной организации, в то же время выступая против логики суверенитета, которую она развивает. Допустим, он просмотрел множество доступных фотографий ООН, стремясь найти ту, на которой все признаки национального государства, суверенитета и наличия лидеров государства постепенно уходят на второй план, уступая место образу всеобщей ассамблеи граждан.
Если выставка реализует возможность создания визуальной Всеобщей декларации прав человека, то Стайхен не является и не должен быть ее единственным автором. Но именно Стайхен собрал материалы из разных мест и организовал их в единую композицию, достаточно свободную для того, чтобы миллионы людей смогли отождествить себя с ней, увидеть в ней свои мечты и надежды; выставка напоминает зрителям о том, что они тоже могут принять участие в переписывании документа и превращении его в обязательный для всех.
Примечания
- ^ См. каталог выставки: Steichen E. The Family of Man. New York: Museum of Modern Art, 1955.
- ^ За первой волной критики, вызванной прежде всего эссе Барта «Великая семья людей» (1956), последовала вторая волна публикаций, посвященных роли выставки и способам ее рецепции за те десять лет, которые она экспонировалась по всему миру. См., например: Sandeen Eric J. The Family of Man 1955–2001 // Back J., Schmidt-Linsenhoff V. (eds.) The Family of Man. 1955–2001: Humanism and Postmodernism. A Reappraisal of the Photo Exhibition by Edward Steichen. Marburg: Jonas Verlag, 2005; Stimson B. The Pivot of the World: Photography and Its Nation. Cambridge: MIT Press, 2006. Все эти исследования показывают, что проблематизация глобального контекста взаимосвязи фотографии и прав человека, а также прав человека и их нарушений в 1945–1955 годах (период, когда были сделаны большинство фотографий, отобранных для выставки) только начинается.
- ^ В 1980-х годах художники, историки и кураторы вновь заинтересовались этой монументальной выставкой — с 1996 года она постоянно экспонируется в замке Клерво в Люксембурге. Эссе и визуальные проекты 1970–1980-х годов проливают свет на выставку в целом и даже ставят под вопрос некоторые аспекты ее критики предыдущего периода, но многие из них все еще следуют парадигматической рамке, заданной Бартом.
- ^ О рецепции выставки в ЮАР см.: Newbury D. Defiant Images. Pretoria: Unisa Press, 2009; о рецепции в Японии: Sandeen E. “The Family of Man” and the Specter of the Bomb (lecture, “Viewing and Reading the Photographs of ‘The Family of Man’” workshop, Durham Centre for Advanced Photography Studies, University of Durham, June 17, 2011).
- ^ Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2008. С. 246 (курсив — А.А.).
- ^ О семейных портретах в Life в 1940-е годы см.: Kozol W. “The Kind of People Who Make Good Americans”: Nationalism and Life’s Family Ideal // Cameron A. (ed.) Looking For America: The Visual Production of Nation and People. Oxford: Blackwell, 2005.
- ^ Лили Корбус Бензер — единственная, кто упоминает этот снимок. Она задается вопросом, насколько он соответствует идее выставки, которую Карл Сэндберг сформулировал во введении к каталогу: «…идее “одной большой семьи, обнимающей весь земной шар — источник жизни”. Конечно, ребенка можно назвать “обнимающим земной шар”, но его тело, одиноко белеющее в море зелени, выглядит мертвым: тело, поверженное природой» (Benzer L. Photography and Politics in America: From the New Deal into the Cold War. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999. P. 136).
- ^ Steichen E. The Family of Man. P. 4.
- ^ Барт Р. Указ соч. С. 246.
- ^ Там же. С. 248.
- ^ См., например: Sekula A. The Traffic in Photographs // Art Journal, vol. 41, № 1, Spring 1981, p. 15–25; Philipps C. The Judgment Seat of Photography // October, № 22, Fall 1982, p. 27–63.
- ^ Барт Р. Указ. соч. С. 246.
- ^ Исключение составляет фотография Варшавского гетто, содержащая подпись «Вещественное доказательство на Нюрнбергском процессе», и фотография здания ООН, дополненная первыми двумя строчками Всеобщей декларации прав человека.
- ^ По фотографии неясно, снята ли она в южном или северном штате США.
- ^ О различных голосах и версиях Декларации 1789 года см.: Jaume L. (éd.) Les déclarations des droits de l’homme: Du débat 1789–1793 au préambule de 1946. Paris: Flammarion, 1989. О Декларации 1948 года см.: Glendon M.A. A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights. New York: Random House, 2001.
- ^ О присущем ООН внутреннем конфликте между приоритетом, который отдается национальным государствам, и обязательствами перед людьми, права которых должна защищать организация, см.: Osiatyński W. Human Rights and Their Limits. Cambridge: Cambridge University Press, 2009; Mazower M. No Enchanted Palace: The End of Empire and the Ideological Origins of the United Nations. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- ^ Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 205.