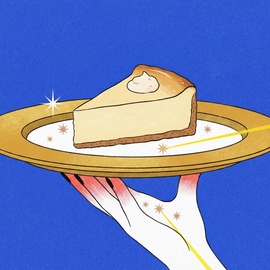О «Зеленом павильоне» Ирины Наховой
Сегодня для профессиональной публики открывается экспозиция павильона России на 56-й Венецианской биеннале. В этом году Россию представляет Ирина Нахова с проектом «Зеленый павильон» — мультимедийной инсталляцией, обращающейся к темам цвета, архитектуры и исторической памяти. Комиссар Павильона — Стелла Кесаева, куратор проекта — Маргарита Мастеркова-Тупицына, организаторы — Министерство культуры РФ и Stella Art Foundation. С любезного разрешения автора, Маргариты Мастерковой-Тупицыной, и Stella Art Foundation мы публикуем статью из каталога выставки (он издан в двух томах, на русском и английском языках), посвященную этой инсталляции.
 Ирина Нахова. Зеленый павильон. 2015. Фрагмент инсталляции. Фото: Никита Рыбаков, courtesy Stella Art Foundation, Москва
Ирина Нахова. Зеленый павильон. 2015. Фрагмент инсталляции. Фото: Никита Рыбаков, courtesy Stella Art Foundation, Москва
Так называемые художники! Бросьте ставить разноцветные заплатки на [полотно,] проеденное мышами времени… Дайте земле новые цвета, новые очертания!
Редколлегия журнала «ЛЕФ», 1923
В одни эпохи художники-живописцы пользуются преимущественно одними цветами, а в другие эпохи — другими. Но и в рамках отдельного периода разные художники предпочитают различные цветовые сочетания. Каждая эпоха, каждый художник имеют свою преимущественную цветовую гамму. Указанное явление, конечно, не случайно: разные цвета по-разному действуют на психику человека.
Владимир Фриче, «Социология искусства», 1926
Цвет должен изучаться как осязаемый промышленный материал, а не как эстетическое приложение.
Густав Клуцис, 1926
Умение привести в действие символическую функцию цвета, а также отношения с пространством и зрителем, сформированные в режиме реагирования на социальные и политические вызовы, послужили для Наховой инструментарием для создания концепции «Зеленого павильона». Начав с идеи перекраски павильона в изначальный (зеленый) цвет, она продемонстрировала характерный для нее интерес к смыканию художественного и социополитического, а также к тому, как «меняется [их] статус… в эстетической конфигурации размышлений на тему искусства»[1]. Ради эстетического удовольствия она исправляет оплошность, допущенную во время предыдущей реконструкции павильона, когда он обрел убойный желто-розовый колорит. «Зеленый павильон» восстанавливает найденное Алексеем Щусевым гармоническое единство между стилистическим «ревайвализмом» архитектурного решения и природным контекстом — садом, лагуной и т. п. Жест возвращения павильона в лоно его изначальной пигментации перекликается с высказыванием Сергея Эйзенштейна, считавшего, что «цвет — это прежде всего идеология»[2].
В России идеологемы зеленого варьировались в зависимости от эпох: то, что для Щусева было символом социального обновления, для Кабакова и других московских концептуалистов стало синонимом коммунального разложения и пустоты, камуфлированной оптимистическим красным. Так или иначе, зеленый цвет («предпосылочный» с точки зрения перестроечной генерации) обладал несомненным утопическим потенциалом.

Перед покраской павильон необходимо было покрыть гипсокартоном[3]. Выбор этого несвойственного для внешней части здания материала передает внутреннее состояние представителей экспериментального искусства в Москве. В каком-то смысле они и сами были покрыты гипсокартоном, учитывая их многолетнюю изоляцию от публики, прессы и художественных институций. Но если перестройка снизила градус этой обособленности, то как насчет неосуществленных проектов? Не утратили ли они свою актуальность? Оппозиционное искусство существовало не только в Советском Союзе, но именно там зримое могло стать невидимым, если оно не было «национальным по форме и социалистическим по содержанию». А это в свою очередь позволяет присоединиться (со знаком «плюс» или «минус») к дискуссии по поводу национальных павильонов как «устаревшей экспозиционной модели»[4], предназначенной для репрезентации той или иной региональной специфики или культурной идентичности. Вопрос: могут ли национальные павильоны выполнять функцию стадийных — хотя бы в рамках данной биеннале — перепрочтений (как в случае с «Капиталом»[5] Маркса) в Арсенале (в Центральном павильоне в Джардини. — Артгид) эстетических парадигм, чье формирование происходило в унисон с метаморфозами марксизма в ХХ веке? «Зеленый павильон» — одна из таких метаморфоз.
Действительно, русское искусство XX века развивалось с учетом предвзятых прочтений «Капитала» Плехановым, Лениным, Троцким и Сталиным, упомянутых Окуи Энвезором в своем программном манифесте по поводу 56-й Венецианской биеннале (за вычетом Кропоткина и Бухарина, которых он не упомянул). Авангард стал «персоной нон грата», когда в конце 1930-х годов критический ингредиент диалектики сдали в утиль под напором унитарной идеологии — «ложного сознания», практиковавшегося в СССР под эгидой марксизма. В тот же период Клемент Гринберг, наставляя авангардных художников на путь истинный, писал, что «подлинная и наиболее важная функция [зрелого] авангарда связана не с экспериментированием, а с нахождением путей для сохранения культуры и продления ее жизни в условиях идеологической путаницы и насилия»[6]. Александр Родченко и Валентина Кулагина, к примеру, осуществили эту миссию в своих дневниковых записях, которые они вели в самые жестокие годы гонений на русский авангард. Их инструктаж относительно того, как пережить трагические моменты истории, производит впечатление по сей день. К тому времени сталинское, то есть эндемическое (с летальным исходом), прочтение «Капитала»[7] уступило место хрущевскому лжепрочтению. Сказанное распространяется и на советскую индустрию культуры, тем более что «призрак» рыночной экономики был выдворен за пределы СССР вместе с механизмами ее реализации, которыми традиционно оперировали западные художники, галеристы и коллекционеры, связанные с музеями модернистского или современного искусства. Миссия Наховой в «Зеленом павильоне» — это репрезентация как ее собственного искусства, так и того мироощущения, которое было характерно для не-институциональной культуры, существовавшей в СССР на «птичьих правах» — с надеждой, что оно станет частью более универсальных дискурсивных практик.

Работая в павильоне, Нахова с пиететом относится к сохранности щусевского интерьера, делая его архитектурные особенности (например, световые люки) частью своей концептуальной семантики. В каждой из комнат цвет определяет психооптический режим восприятия. В первой, покрашенной в металлический серый, это создает герметичное и противоестественное (с точки зрения обустройства) пространство, имитирующее кабину военного самолета. Мы видим голову пилота, подавляющую своими размерами (два с половиной метра в диаметре). Этот скульптурный образ предстает перед нами в шлеме, кислородной маске и перчатках. Сцена, предполагающая крушение персонажа и его фрагментацию (будь то отделение головы от тела или психические увечья), позволяет сравнить художника с авиатором и провести аналогию с книгой Дж. Джойса «Портрет художника в молодости [как летчика]». Слово «летчик» — неологизм Хлебникова, а художник в образе (или в шлеме) летчика — это навигатор в социальном космосе и одновременно заложник своих собственных надежд и стремлений. Инсталляция Наховой наталкивает на ассоциации: в голову приходят имена ее отдаленных предшественников — таких как поэт-футурист и один из первых российских пилотов Алексей (Василий. — Артгид) Каменский, который в 1912 году потерпел крушение, но все же выжил. Эта комната также навевает воспоминания о Йозефе Бойсе, утверждавшем, будто во время Второй мировой войны он разбился в Крыму, но был «оживлен» крымскими татарами. Наховская концептуализация художника-как-летчика напоминает также о летательном аппарате Владимира Татлина под названием «Летатлин». Во всех таких случаях художник представлен как независимый боец, чья цель высвободиться из тенет обветшалых догм и шаблонов, преодолеть тяготение бренного мира и одновременно покорить его. Нахова суммирует эти противоречия следующим образом: «Фигура пилота — это фигура художника, изолированного от всего мира, замкнутого в кабину сверхзвукового истребителя и осуществляющего собственную непредсказуемую миссию… Общение с окружающим миром предельно опосредовано: набор используемых и узнаваемых жестов крайне невелик, и реакция на них наблюдателей неадекватна»[8]. Движение его глаз, направляющее взгляд зрителя, еще одно свидетельство неадекватности и неопределенности, коренящейся в отсутствие экспозиционного опыта и контактов с аудиторией в доперестроечный период и, соответственно, в незнании тех схем, по которым выстраивается встреча художника со зрителем в публичном пространстве. Вспоминая о вакууме тех лет, Нахова, тем не менее, иронизирует над повсеместностью зрителя и его всеприсутствием в сегодняшней жизни. Речь идет о принципиально разных режимах театральности[9], таких как творческий акт и акт восприятия, однако особый интерес представляет навигационная система связи между драматически разными историческими моментами. Вот то, что позволяет «голове» (пилота) принимать осмысленные решения и стимулирует зрителя проанализировать свою роль в индустрии культуры. С характерной для нее иронией Нахова описывает встречу зрителя со своей скульптурой: «Сила взгляда художника из-под стекла маски заставляет обывателя, оказавшегося в непосредственной близости от художника, обернуться, задрать голову и обратить свой взгляд, обычно устремленный в пол или не выше телевизора, — к небу, к бесконечности Вселенной»[10]. Это когда световой люк, покрытый пленкой, становится прозрачным и совершается «переход от мира бесцветного к миру цветному»[11].
Хотя «голова» приводится в действие благодаря высокоразвитой технологии, она выглядит как художественный объект. Синтез технологии с примитивом информирован приемами русских футуристов, которые фрустрировали Филиппо Маринетти во время его визита в Россию в 1913 (1914. — Артгид) году. Неприкаянность «головы» [летчика] гармонирует с материалом, из которого она сделана: сероватый хлопок, сшитый из кусков и обычно используемый для покроя так называемых ватников, которые Владимир Татлин считал рабочей одеждой («одеждой-normal»).
В 1930-х ватники (или телогрейки) обрели негативную репутацию, став униформой заключенных ГУЛАГа, а также в послевоенный период, когда этот эгалитарный «наряд», продолжавший оставаться востребованным, напоминал о «достижениях» советской легкой промышленности.

Интенсивность встречи зрителя с без-пяти-минут тоталитарным художественным объектом завершается отсутствием каких-либо объектов в центральной (площадью 144 м2) части павильона, покрашенной в «кромешный» черный цвет. Большой световой люк также частично покрашен, причем так, что только квадрат в его верхней секции остается источником света. На полу виден застекленный квадратный проем, покрытый особо чувствительной пленкой (электронной тонировкой). Когда зритель наступает на этот квадрат, этот последний становится прозрачным, обнаруживая наличие видеоинсталляции, демонстрируемой на нижнем этаже. В моменты прозрачности цифрового экрана взоры зрителей, которые над ним, и тех, что под ним, взаимодействуют в режиме «обратной связи», как бы обмениваясь позициями обзора (излюбленный вид съемки для фотографов-модернистов).
Черный цвет и центральная квадратная форма, чьи состояния замутненности/прозрачности зависят от местонахождения зрителя, навевают воспоминания о «Черном квадрате» Малевича. Есть несколько причин, повлиявших на выбор этой картины в качестве центрального имиджа в «Зеленом павильоне».
(1). Он был создан примерно в то же время, когда Щусев осуществил дизайн Русского павильона, и если принять во внимание сказочно-лубочный, рекреационный уют этой постройки, то «Черный квадрат» с его формальным радикализмом и суровостью цветового решения оказался с ней по другую сторону баррикад. Их дисбаланс соответствовал нехватке согласия в русском обществе в начале Первой мировой войны. Будучи футуристом, Малевич принадлежал к небольшому кругу авангардистов, призывавших к модернизации России, тогда как Щусев имел репутацию архитектора, угодного монархии, а позднее — большевикам, при поддержке которых он прославился сооружениями в конструктивистском стиле. (2). Малевич написал второй «Черный квадрат» — как часть триптиха «Квадрат, круг и крест» — для выставки 1924 года в щусевском павильоне (Венеция) после того, как правительство Италии официально признало СССР, как бы дождавшись смерти Ленина, умершего неделей раньше. Этот показ (уже не в русском, а советском павильоне) был спланирован в характерной для середины 1920-х годов эклектичной манере, «примиряющей» фигуративное и беспредметное искусство. Предвосхищая последствия, Малевич послал инструкции, связанные с развеской его работ, и предупредил, что триптих должен быть экспонирован по вертикали. Это уточнение привело к отказу кураторов найти место для работ художника. В результате вынесения за скобки (epoché) «Черный квадрат» (как иконический имидж беспредметного искусства) превратился в призрак, рыщущий по щусевскому павильону[12]. Наховская презентация «призрака» — с учетом диалектики восприятия и зависимости от реакции наблюдателя — подтверждает мнение Ти Джей Кларка о принадлежности «Черного квадрата» к сонму «неопределимых» (перманентно-подвешенных, утопических) концепций. Одиозность этой картины в родных пенатах — лишнее тому подтверждение[13]. (3). В опере «Победа над Солнцем» (1913) Малевич предпринял концептуализацию своего редуктивистского проекта, но не на холсте, а на театральном занавесе. Ориентация на зрителя сделала беспредметность спектакулярным феноменом.
Позднее (в 1967 году) Майкл Фрид обвинил американский минимализм в театральности[14]. «Обвиняемые» (Дональд Джадд и другие «литералисты») считали Малевича своим предтечей, а его современники, такие как Варвара Степанова и Александр Родченко, сразу же осознали скрытую театральность «Черного квадрата», несмотря на «отсутствие у него света, цвета и формы»[15]. Их упреки не подействовали на Малевича, и в письме к Степановой он сообщил о намерении заполнить Витебский театр супрематизмом[16]. Если связь с театром неоспорима, то в процессе дальнейшей теоретизации выяснилось, что «Черный квадрат» — мост, перекинутый Малевичем от супрематической живописи к супрематическому кино[17].
Этот сдвиг он совершил под влиянием своего друга и соавтора, марксистского критика Алексея Гана, который уже в начале 1920-х годов призывал к декоммодификации (растовариванию) эстетики за счет повышения внимания к фильмам и фотографии.

Авангардный проект дереификации (развеществления) эстетических практик нашел продолжение в «Зеленом павильоне», где Нахова наделяет беспредметность «Черного квадрата» концептуальным потенциалом. Она делает это на двух уровнях: во-первых, акцентируя форму, цвет и свет, которые Степанова считала отсутствующими; во-вторых, отдавая дань их эфемерности и транзитности. На первых порах зритель вступает в контакт с перформативными свойствами объекта, находясь на некотором расстоянии от него. Перед ним молчащий и «слабо мерцающий квадрат»[18], втянувший в себя все прошлое советской эпохи и покрытый тонировкой — цифровой «перчаткой». Дальнейшее приближение к квадрату и вход на его заповедную территорию приводят к автоматической смене режимов: беззвучная замутненность сменяется гулкой прозрачностью — «рыкающей», как в поэме Хлебникова[19]. Последнее — результат зияния в полу, то есть частичной открытости нижнего этажа, благодаря чему можно приобщиться к видео, в котором художественный образ советской истории обретает гротескные формы, изначально ему свойственные. В комнату, где показывалось видео, надо было спуститься по лестнице. Попадая в перцептуально-вязкую среду образов, проецируемых на пол и составленных из движущейся толпы, потоков воды, червей и растений, зритель рискует потерять равновесие.
Возникающий дисбаланс — «плодотворная» почва для приобщения архитектонике факта, к тому выборочному материалу, который Нахова скачивает из публичных и частных архивов. Этой начинкой заполняются архитектурные модули (решетки, клетки), воспроизведенные в цифровом режиме по образу и подобию щусевских монументальных сооружений. Среди них Мавзолей Ленина и снесенное по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова здание гостиницы «Москва». Эти наложения дают понять, что архитектура — не только молчаливый свидетель, но и сообщник реформаторов и их антагонистов, сменяющих друг друга на исторической сцене и на подмостках политического театра. Архитектура — тот самый след, который иногда прерывается (из-за войн или попустительства), рискуя исчезнуть, «как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке».
Головокружительная смесь фотографических данных, повествующих об уровне бюрократии, милитаризации, а также о социальных катаклизмах, досуге и индустрии удовольствий позволяет провести параллель с работами Кабакова из серии «Четыре столпа: труд, государство, работа и искусство» (1983). В случае Кабакова и Наховой архив «являет себя в виде фрагментов, острота которых тем драматичней, чем больший срок отделяет нас от самих событий»[20]. И все же кабаковские репрезентации советской реальности составлены из реди-мейдов: «Четыре столпа» суть неопосредованный архив журнальных репродукций и почтовых открыток, без каких-либо оценочных жестов или следов перепрочтения истории в поисках новых улик или фальши. Художник сознательно камуфлирует инструментарий (рычаги и отмычки) деконструкции, тем более что он создавал свою серию в период «серийной» смены лидеров после смерти Брежнева.

Что касается Наховой, то поначалу может показаться, будто она прибегает к советскому архиву с «опозданием», в том смысле, что в 1980-е и 1990-е годы он был дискурсивно проработан (освоен) значительным числом передовых художников[21]. Но то был совершенно иной социополитический климат, и многим казалось, будто разоблачительные кампании в отношении тоталитарного прошлого раз и навсегда закрепили за ним негативный образ. Спустя 30 лет после начала перестройки мы видим, что выдавали желаемое за действительное. В настоящее время историческая наука переживает период ревизионизма как в России, так и в бывших союзных республиках, каждая из которых под давлением травматических воспоминаний о прежней жизни вырабатывает свою собственную версию temps perdu — с признаками головокружения или без. Название «Червь истории» передает озабоченность Наховой по поводу состояния нашей исторической памяти, чреватой не только «реальными червями», но и компьютерными. Это возобновляет тему удовольствия от отвращения, возникающего, по словам Жоржа Батая, «в тот момент, когда мы обнаруживаем, что плод червив». Такой «карнавальный» подход к проблеме можно считать диалектическим: с одной стороны, «пир во время чумы»[22], с другой — поиск пространства для утопической рефлексии. Связь между «чумой» и «утопией» — сильная сторона наховского проекта. Подобные ассоциации (порой, утрированные) возвращают нас к «архе» — движущему началу Октябрьской революции, а именно к бунту матросов на броненосце «Потемкин», где их кормили мясом с червями[23].
Если в видеофильме руины истории представлены на правах содержания, то в зелено-красной комнате, прилегающей к черной, это достигается за счет формы и цвета. Перемещение в зелено-красную часть после черной ослепляет зрителя своей яркостью и создает атмосферу тотальности, возникающую благодаря всеохватности абстрактного шаблона, задействованного при покраске стен и отпечатанного на материале, которым покрыт пол. Нахова заимствует эту всеохватность из своей более ранней картины «Основные цвета 2» (2003), где приведены в действие редуктивистские теории цвета, к которым апеллировал авангард, призывавший к отказу от многокрасочности в пользу автономности цвета[24], то есть к тому, что Малевич определил как «новый цветовой реализм». Этот последний — в условиях механической репликации — выплескивается из берегов картины и начинает действовать в открытом пространстве.

Наховская зелено-красная комната — это постмодернистский (джеймисоновский, как иногда говорят) гибрид цветоформы и цветотекста со следами достижений и искажений, отражающих состояние всего общества в целом. Дополнительное толкование информировано ассоциациями с двумя часовнями: Анри Матисса (с его витражами и росписями) и Марка Ротко (с картинами в той же роли); различие в том, что оба художника обустраивают «беспредельное в конечном», позиционируя цвет как эстетический и духовный эквилибриум, тогда как для Наховой стихия цвета — это еще и источник психологического давления[25]. Так, например, красное навевает воспоминания о «красном терроре» во времена революции, о красных флагах и лозунгах, наводнявших Красную площадь во время праздничных демонстраций, а также о языках пламени в окнах Белого дома во время путча 1993 года. Зеленый — цвет второго слоя, возникшего «из ниоткуда», о чем свидетельствует название картины Наховой с этим обратным адресом[26]. Выбор темы убедительно демонстрирует, что зеленый способен прервать монолог красного, обнажая то, что он камуфлирует — а именно провал коммунального и побочные эффекты милитаризации. В этой зелено-красной комнате оба пигмента вступают в борьбу за право считаться цветом нашего времени. Неужели «озеленение» фасада Российского павильона подсказывает нам, что «защитный» колорит имеет наибольшие шансы? И есть ли гарантия, что зеленый, как некогда красный, не окажется очередным прикрытием для новых провалов на исторической сцене?
Перед нами клубок Ариадны, то есть моток красных ниток, который здесь же и прерывается. Растянутый по историческому лабиринту, где из советского искусства можно попасть в постсоветское или потеряться в новейшей истории, он, несомненно, будет воодушевлять зрителя найти путь к выходу. Встреча Тесея (зрителя) с минотавром (пугающим образом прошлого) происходит в «Зеленом павильоне», — но не в реальности, а в нашем сознании. Но если минотавру удастся выжить, то лабиринтность лабиринта станет неограниченной.
Примечания
- ^ Jacques Ranciere, The Aesthetic Unconscious (Polity Press, 2010). P. 8
- ^ Оригинальная фраза (Form is first of all ideology) процитирована в книге Yve-Alain Bois, Painting as Model (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990). P. 20.
- ^ Это решение было принято, когда намерение Наховой перманентно перекрасить павильон в зеленый цвет было заблокировано бюрократами.
- ^ См.: Okwui Enwezor’s statement on the website,
- ^ В этом контексте примечательна фраза Ги Дебора «Спектакль — капитал, аккумулированный до уровня, когда он становится имиджем». См.: Guy Debord, The Society of the Spectacle (New York: Zone Books, 1995). P. 24.
- ^ Clement Greenberg, “Avant-Garde and Kitsch” (1939), in Pollock and After: The Critical Debate, ed. Francis Frascina (New York: Harper & Row, 1985). P. 22–23.
- ^ Выбор слов соответствует позиции нынешнего куратора Венецианской биеннале. См.: Okwui Enwezor’s statement on the Biennale’s website. С Энвезором мы были сокураторами выставки «Глобальный концептуализм» (Queens museum, Нью-Йорк, 1999), где я выставляла Ирину Нахову в числе других московских концептуалистов.
- ^ Из проекта Ирины Наховой для выставки «Зеленый павильон», вариант 2.
- ^ Ги Дебор считал, что «зритель не чувствует себя как дома нигде, так как спектакль — везде». Там же. C. 23.
- ^ Из проекта Ирины Наховой для выставки «Зеленый павильон».
- ^ Там же.
- ^ Разочарованный этим поворотом событий, Малевич потребовал от Лисицкого, жившего в тот момент в Европе, «спровоцировать скандал в прессе». Однако, готовясь к своему возвращению в Москву, Лисицкий «дипломатично решил не ввязываться в этот конфликт». См.: Молок Николай. Русские художники на Венецианской биеннале, 1895–2013 / ред. Молок Николай. — М.: Stella Art Foundation, 2013. — С. 218.
- ^ Не сюрприз, что кинематографисты с известностью Андрея Кончаловского могут позволить себе, выступая по телевидению, самонадеянно отрицать важность «Черного квадрата».
- ^ См.: Michael Fried, Art and Objecthood: Essays and Reviews (University of Chicago Press, 1998). P. 12–23.
- ^ Степанова Варвара. Человек не может жить без чуда: письма, поэтические опыты, записки художницы. — М.: Сфера, 1994. — С. 71.
- ^ В том, что театр — родина «Черного квадрата», нет ничего удивительного, так как, помимо традиционных театров или театрализованных пространств галерейно-музейного типа, где происходит показ искусства, есть еще и «театр сознания» (термин Стефана Малларме). А значит, любое искусство театрально, независимо от того, насколько реальным (или иллюзорным) является зритель. — Примеч. перев.
- ^ Для примера см. мою книгу Malevich and Film (New Haven and London: Yale University Press, 2002).
- ^ Из проекта Наховой для выставки «Зеленый павильон».
- ^ Слова «рыкать» (рычать) и «перчатка» (рыцарская, длинная) употреблялись в поэме Велимира Хлебникова «Ряв! Перчатки», проиллюстрированной Малевичем в 1914 году, когда он (предположительно) начал работу над своим первым «Черным квадратом», выставленным в 1915 году.
- ^ Фуко Мишель. Археология знания. См.: Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language, trans. Alan Sheridan Smith (New York: Pantheon Books, 1972). P. 130.
- ^ Об этом см.: Margarita Tupitsyn, “Against the Camera: For the Photographic Archive”, Art Journal 53, no. 2 (Summer 1994). P. 58–62.
- ^ Это популярное в России выражение заимствовано из «Маленьких трагедий» Пушкина. Есть мнение, что «пир во время чумы» симптоматичен для «русской души».
- ^ Выходит, что конец предвосхитил начало в том смысле, что червь оказался «движущим началом» революционных событий. — Примеч. перев.
- ^ Малевич Казимир. Супрематизм. См.: 10-я государственная выставка: Беспредметное творчество и супрематизм. — М., 1919. — С. 16.
- ^ Нахова сформулировала свою концепцию цвета как означающего брутальность в своей серии «Упражнения в цвете» (2008).
- ^ Точное название картины — «Из ниоткуда: поле».