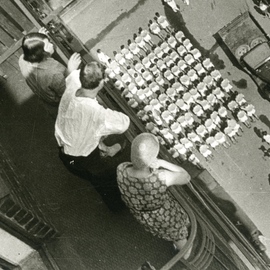03.06.2013 41239
Микеле де Лукки: «Предмет не имеет ценности. Ценность имеет точка зрения»
Соратник и ученик Этторе Соттсасса, свидетель одного из самых героических эпизодов в истории дизайна и одного из самых бурных периодов в истории Италии, Микеле де Лукки сегодня — известный и успешный дизайнер. В конце мая он по приглашению журнала Architectural Digest выступил с лекцией на АРХ Москве, а после встретился с Александром Острогорским и поговорил о славном прошлом дизайна и его бесславном настоящем.

Семидесятые были тяжелым временем для Италии, но удивительным для итальянского дизайна. После волнений конца 1960-х настали «годы свинца», anni di piombo: противостояние крайне правых и крайне левых групп привело к целой серии терактов и политических убийств — считается, что с 1969 по 1981 год от них погибло больше 2000 человек. В 1978 году было совершено одно из самых жестоких преступлений в этом ряду, хорошо освещавшееся и советской прессой, — похищение и убийство Альдо Моро лево-экстремистской группировкой «Красные бригады». В том же году молодой дизайнер Микеле де Лукки , недавно закончивший университет во Флоренции, переехал в Милан, где познакомился с Этторе Соттсассом и присоединился к группировке — тоже радикальной — дизайнеров, известной под названием Studio Alchimia.
В отличие от политических террористов, радикалы-дизайнеры мечтали взорвать итальянское общество изнутри — разрушив «коллективное бессознательное» самодовольного буржуазного общества, на которое ориентировалась и уже сложившаяся итальянская индустрия дизайна. Они не были первыми — их предшественники, «радикальные» группы Archizoom и Superstudio, собравшиеся как раз во Флоренции, уже пытались это сделать. Основатель Superstudio Адольфо Наталини в 1971 году писал: «Если роль дизайна только в том, чтобы стимулировать потребление, то мы должны отказаться от дизайна; если архитектура просто закрепляет буржуазные модели собственности и общества, то мы должны отказаться и от архитектуры... до тех пор, пока дизайн во всех своих проявлениях не начнет отвечать реальным потребностям. До тех пор дизайн должен исчезнуть. Мы проживем и без архитектуры».
Этторе Соттсасс, которому, когда Микеле де Лукки присоединился к Studio Alchimia, было за шестьдесят, шел ва-банк. Он прошел концентрационный лагерь, стал известным дизайнером, работая для Olivetti. Самая известная его вещь, печатная машинка, названная в честь героини развратно-психоделического комикса «Валентиной», вышла через год после того когда студенты захватили выставку Миланской триеннале дизайна и сорвали ее открытие. Терять было нечего — атмосфера требовала реакции. Созданная в 1981 году группа Memphis стала делать абсурдно яркие и неудобные вещи. Полки, с которых все падает, столики, которые не вписываются ни в один угол, дешевый ламинат — китч, поп-арт, ар деко — разрушение модернистской эстетики 1950–1960-х, которая окончательно пережила в себе всю левизну и стала самой удобной оболочкой для капитализма. Завоевав мир, новая эстетика — уже постмодернистская — вполне сжилась с буржуазным представлением о красоте. Memphis был закрыт самим Соттсассом, а его ученики — среди которых был и Микеле де Лукки — стали работать на крупные компании, делать интерьеры для банков.

Александр Острогорский: Главный редактор журнала AD Евгения Микулина представила вас московской публике как «живую легенду», и это правда. Но как к легенде к вам можно предъявлять и претензии — на вашем поколении лежит ответственность за то, что критический потенциал дизайна, который в нем появился благодаря Этторе Соттсассу и Алессандро Мендини, был растрачен почти полностью, и сегодня дизайнеры, кажется, заняты только тем, что обслуживают всесильную машину потребления. Как вы допустили это?
Микеле де Лукки: Ох, хороший вопрос. Действительно, сегодня дизайн прекратил быть той дисциплиной, которая могла бы менять и формировать общество. Он уже не играет той роли, которую, например, может играть современное искусство. С одной стороны, само общество полностью отказалось от этого, то есть это по сути антропологическая проблема. С другой, я возложил бы вину на школы дизайна и архитектуры. Сегодня они превращают дизайн, архитектуру, искусство в закрытые друг от друга дисциплины. Когда я учился в университете, не было школ дизайна, не было такого предмета, как не было и школ урбанистики. Было общее понятие — архитектура, в которой в каждом направлении учили видеть реальность по-новому и интерпретировать ее. Когда я работал для Olivetti, я не задавал себе такого вопроса (да и не смог бы на него ответить), кто я — художник, архитектор или дизайнер? Мы были архитекторами, но спокойно занимались хеппенингами, фотографией, кино. Сейчас же между дисциплинами возникли жесткие границы, в особенности между искусством и архитектурой, — их дороги все больше расходятся. Это разделение привело к тому, что ни в одной из дисциплин творчество само по себе оказалось не нужно — ты просто занимаешься своей профессией в соответствии с некоторыми четкими правилами.

А.О.: В 1970-х вы ради этого смешения дисциплин выбрали учебу во Флоренции, а не в Милане, который уже был «столицей дизайна», но, может быть, был слишком крепко связан с промышленностью и рынком. Как это повлияло на вас?
М. де Л.: Все в моей жизни было бы по-другому, если бы я не встретил Этторе Соттсасса, — все остальное не имеет значения. Он научил меня рисовать, фотографировать, писать, — я и сейчас пишу как он. Я покупал одежду, которую покупал он, ходил в ту же парикмахерскую и просил меня постричь как его, ел там, где он, и то, что он ел. Он был моей школой, университетом и всем остальным.

А.О.: Вашу знаменитую бороду вы, однако, не сбрили!
М. де Л.: А он требовал, между прочим!

А.О.: Вы рассказали на лекции очень трогательную историю о том, как появилась борода, — что вы с вашим братом-близнецом решили, что должны отличаться хотя бы в этом. Что с ним сейчас?
М. де Л.: Когда мы выбирали, где будем учиться, мы решили, что школы должны быть совершенно разными и как можно дальше друг от друга. Он стал изучать химию, а я архитектуру. До 40 лет мы делали все по-разному, спрашивали друг друга: ты что делаешь? — и делали наоборот. Он женился на брюнетке, я на блондинке. Он покупал новые машины, я старые. А после 40 лет я заметил, что мы стали сближаться. Сейчас он занимается живописью, в реалистической манере. Теперь он пишет статьи обо мне, а я — о нем. В прошлом году мы даже сделали совместную выставку в Бордо, в музее декоративных искусств. Я рисовал предметы, проектировал вазы, а он их расписывал. И общая тема была: «Быть близнецами — это здорово».

А.О.: Вернемся к итальянским 1970-м, «годам свинца», — они чем-то напоминают Россию сегодня — страх, ненависть, бесконечная ложь общественной жизни. Что двигало вами и вашими коллегами, какая эмоция лежала в основе проекта Memphis? И что движет вами сейчас?
М. де Л.: Прежде всего, это был дух бунта. Мы хотели быть нарушителями порядка. Мы называли то, что мы делаем, радикальной архитектурой и дизайном, потому что мы действительно хотели повлиять на общество, мы хотели всколыхнуть коллективное бессознательное. Как будто над нами было огромное облако со всеми образами, всем, что нам кажется прекрасным и ужасным, справедливым и несправедливым, а мы пытались спустить это облако на землю, перемешать в нем все и дать людям. Но сегодня повестка дня другая — это природа. Тогда таких слов как экология, устойчивое развитие не было, люди не беспокоились об изменении климата, о глобальном потеплении. Это стена, которая нас отделяет от тех времен, и те проблемы сегодня кажутся детским садом по сравнению с нынешними. Сегодня речь идет о том, есть ли вообще какое-то будущее у человечества. И тот, кто занимается любыми формами дизайна и архитектуры сегодня, — он или делает будущее возможным, или подрывает остатки системы. Это как в фармацевтике — раньше, продавая лекарства, говорили о том, какую пользу они приносят, а сейчас — что они не наносят вреда. Не думать об этом — это просто непрофессионально.

А.О.: А чем ваш радикализм отличался от радикализма более ранних дизайнеров-бунтарей — Superstudio и Archizoom?
М. де Л.: Главная разница в том, что старшее поколение считало, что проектировать не нужно, — потому что это значило бы навязывать свои правила, ограничивать свободу дискуссии. В 1980-е этот подход пересмотрели, и проект стал отправной точкой для разговора об идеях. В 1980-е стали проектировать всё.

А.О.: Кажется, что это отношение к проекту отчасти сохранилось в архитектуре, но совсем не в дизайне.
М. де Л.: Неприятно это признавать, но вы правы. Дело в том, что на смену нам пришло поколение дизайнеров, которые стали очень богаты. И они решили, что это в дизайне — главное. Если ты не богат — ты не дизайнер. Все, что было важно для нас — для них уже не имело значения.

А.О.: Но удалось ли вам тогда что-то изменить? В какой мере вы были влиятельны? Что из тех методов можно использовать сейчас?
М. де Л.: В 1981 году, в первый год работы Memphis, вышло 52 журнала с материалами о нас. Это была огромная и мгновенная слава. Очень многие дизайнеры стали, осознанно или нет, использовать наш язык. Когда в 1987 году Этторе сказал, что закрывает проект, я был очень зол, — но он был прав. Все, что мы сделали, принадлежит 1980-м годам и должно там остаться. Сегодня говорят, что дух Memphis возвращается, что люди снова хотят быть яркими, бунтовать против несправедливости, — но придумывайте свой язык, новый, не пользуйтесь старым языком.

А.О.: Как вам кажется, сейчас это кому-то удается?
М. де Л.: Да, но это не дизайнер, а фотограф. Его зовут Себастьян Сальгадо, он путешествует по всему миру. Посмотрите его лекцию на конференциях TED. Вот он создает язык, который соответствует современности.
А.О.: Итальянские дизайнеры и архитекторы, мне кажется, отличаются как раз тем, что замечательно умеют находить для языка политики, общественной дискуссии язык формальный — иногда так тонко, что второй затмевает собой первые. Именно это удалось в Memphis — как это работает?
М. де Л.: Когда ты гуляешь в горах, то видишь, что с каждым новым шагом пейзаж меняется. Это и есть работа дизайнера — все время подмечать и воплощать разные точки зрения. Предмет не имеет абсолютной ценности, но есть разные точки зрения. Все время одно и тоже — лампы, столы, стулья, частные, общественные пространства. Важно наше желание посмотреть, послушать и сделать что-то по-другому.

А.О.: Что с вами стало происходить после Соттсасса? Вы смогли создать для себя новую программу, новый язык?
М. де Л.: В дизайне есть правило, которое кажется мне непреложным: каждые десять лет что-то должно меняться. Мы ведь неслучайно так и говорим — «дизайн 1950-х», «дизайн 1960-х». Когда я понял, что это просто закон, мне это очень помогло. Девяностые стали совершенно другим миром. Это был неуправляемый взрыв технологий, было невозможно работать по-прежнему, но и непонятно, как работать по-новому. Сейчас с компьютером справляется любой, и работать уже легче. Мои студенты работают с компьютером, видео, рисунком, фото, моделями, музыкой — они свободны от технологий.

А.О.: И какую версию дизайна они создают сегодня, в 2010-х?
М. де Л.: Мне кажется, основная идея сегодня — понять, что такое природа. У меня ведь не только итальянцы учатся, но и голландцы, англичане, студенты из Восточной Европы, Прибалтики. Я чувствую, с одной стороны, что они сбиты с толку богатством выбора, количеством возможностей, и очень боятся ошибиться, сделать неправильный выбор. Но в чем они едины — они хотят приблизиться к природе. Мы сейчас делаем входной павильон для ЭКСПО в Милане 2015 года, главной темой которого будет «Питать планету. Энергия для жизни», и это две очень важные темы — как прокормить людей и как питать саму планету, чтобы она давала нам ресурсы. Что-то дать, чтобы иметь возможность что-то получить в ответ, — это сейчас самая важная тема для них, и для всех нас.
В оформлении материала использована фотография Микеле де Лукки с лампой Led Net, Artemide. Источник: www.fondazionemaxxi.it