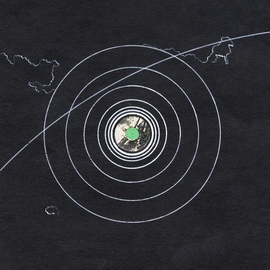Котлован историй
Тщательно изучив книгу «Обман зрения: Разговоры с Элом Казовским (СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2017), «Артгид» решил порассуждать о роли медиа в формировании образа творца и вспомнил пять сборников интервью с художниками.
 Джонатан Вулстенхолм. Из серии «Сюрреалистические книги». © автор
Джонатан Вулстенхолм. Из серии «Сюрреалистические книги». © автор
«Обман зрения: Разговоры с Элом Казовским»
СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2017
Елена Казовская, избравшая для себя мужской псевдоним Эл Казовский (а вместе с ним и образ художника декадента, сбежавшего в современность из Серебряного века), — искусный архитектор собственного мифа. Она родилась в Ленинграде в семье искусствоведа Ирины Путоловой и физика Ефима Казовского — знаменитого коллекционера китайского фарфора. После развода родителей жила с бабушкой и дедушкой на Урале, а затем перебралась с матерью в Будапешт, где получила художественное образование и стала одной из главных фигур венгерской художественной сцены.
Все творчество Казовского — от живописи до театральных перформансов — пролегло между воспринятой от матери страстью к античным мифам и отцовской тягой к собирательству, которое воплотилось как в эклектичном отношении к теории и теоретизированию, так и в формальном воплощении работ. Ближе всех к эстетике Эла Казовского из современных художников подошла Ирина Корина, сочетающая в своих произведениях своего рода визуальный инфантилизм с нарядным излишеством дешевых материалов. В целом же метафизический китч — основное содержание произведений и речей художника Казовского.
«Обман зрения» — вещь пафосная, исполненная крайнего индивидуализма. Составившие книгу интервью продолжают и преумножают ту мифологию, мистерию личности, на которую всю жизнь работал художник. Опыты пристального всматривания в себя перемежаются семейной хроникой, переходящей в манифест покинувших и покинутых — потерявших связь с родным языком и пока не нашедших новый. («Я по природе своей не художник. Останься я в детстве в своей языковой среде, вероятно, стал бы писателем».) Эволюцию стиля и мысли Казовского проще всего описать как метафору погружения — чем глубже и запутанней становились рассуждения художника о природе цвета и образа, тем насыщеннее и фантасмагоричнее выходили его работы. Именно это напряженное ощущение постоянного движения вглубь, пожалуй, главное впечатление, которое «Обман зрения» оставляет после себя.
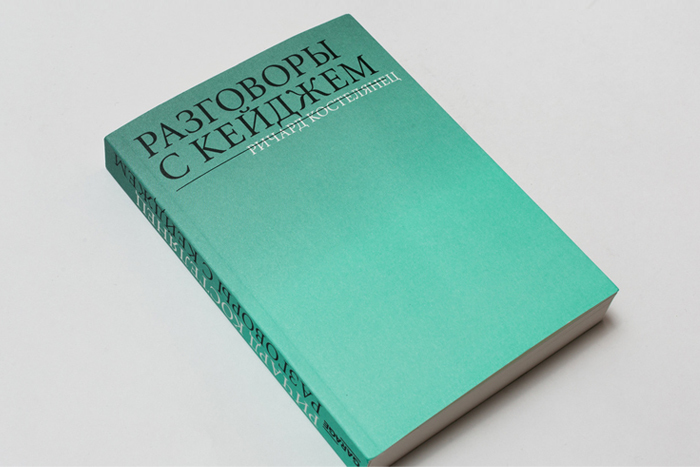
Ричард Костелянец. Разговоры с Кейджем
М.: Ад Маргинем Пресс, Музей «Гараж», 2015
Говоря о книге «Разговоры с Кейджем», стоит обратить внимание на ее автора, организовавшего повествование так, чтобы остаться по одну сторону формальных поисков со своим героем. Ричард Костелянец — саунд-поэт, критик и эссеист, бывший редактор и издатель журнала Assembling — одного из главных альтернативных медиа 1970–1980-х, анархист и либертарианец, исследовавший культурную жизнь Нью-Йорка второй половины XX века. Все свое творчество, в том числе звуковые, литературные и художественные эксперименты, он считает особым родом письма, транслирующим «полиартистизм» (polyartistry). Это принципиально непохожая на деятельность «моноартистов» художественная стратегия, среди приверженцев которой Костелянец выделял художников, одинаково преуспевающих в нескольких несмежных видах искусства. Хронологию он вел от Леонардо да Винчи и Уильяма Блейка к Марселю Дюшану, Эль Лисицкому и Джону Кейджу.
Ключ к пониманию полиартистизма Кейджа, с его точки зрения, кроется в идее неиерархического пространства и времени. Кейдж освободил музыку как от традиционных моделей существования звука и представления о его назначении, так и от фигуры композитора. Ему удалось легитимировать звук сам по себе — не столь важно, идет речь об ударе стула об пол или о паузах и пустотах, на которых построено самое известное произведение Кейджа — пьеса «4’33”», вдохновленная белыми монохромными полотнами Роберта Раушенберга.
Впервые вышедшая в 1986 году книга «Разговоры с Кейджем» соединила высказывания композитора за 30 лет, которые были скроены в цельную беседу-коллаж. Все интервью Костелянец разбил по нескольким темам и переплавил в связный текст, по сути, не имеющий ни начала, ни конца, ни смыслового центра. Жанр интервью работает здесь в первую очередь интонационно, предоставляя возможность объяснить ключевые для понимания идей Кейджа моменты в доступной и сжатой форме разговора «здесь и сейчас». Однако синтетичность все же дает о себе знать: принцип монтажа повлек за собой неизбежные повторы, проговаривание одних и тех же мыслей, создающее эффект эха. Но, пожалуй, именно благодаря этому «эху» книга вполне может быть прочитана как самостоятельное концептуальное произведение, дополняющее практики Кейджа. Неслучайно композитор замечал, что «музыканты очень редко приходили на концерты, которые я организовывал, — что на музыкальные, что на перформансы. Аудитория состояла в основном из людей, интересующихся живописью и скульптурой».
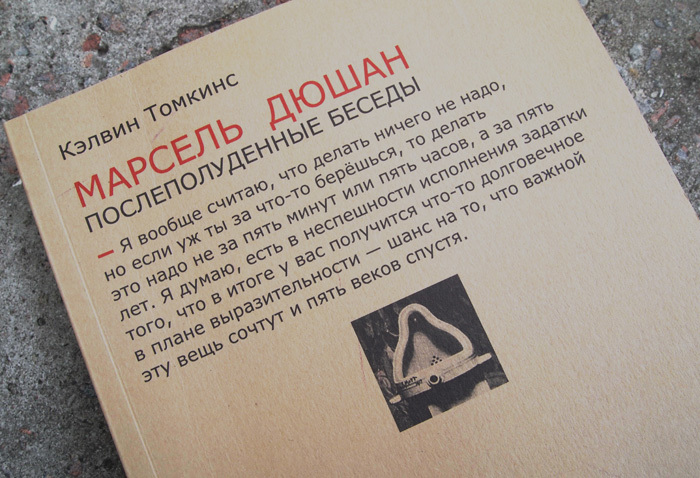
Кэлвин Томкинс. Марсель Дюшан. Послеполуденные беседы
М.: Грюндриссе, 2014
«Послеполуденные беседы», пожалуй, единственный сборник интервью из этого обзора, сохранивший в себе легкость журнального формата, но не подразумевающий никакого упрощения. Он вобрал в себя три большие беседы, которые художественный критик журнала The New Yorker Кэлвин Томкинс провел с Марселем Дюшаном в 1964 году — за четыре года до смерти художника, когда его фигура уже была сакрализированна, но в то же время словно бы вытеснена из современности (или, как признавался сам Томкинс, была «делом далекого прошлого»). В этих разговорах поднимаются проблемы возможности интеграции художника в современное общество, вторжения реди-мейдов на арт-рынок, отношений с коллекционерами и коллегами по цеху.
Однако вместо того чтобы примерить на себя роль пифии от художественного мира, Дюшан выступает здесь афористичным, местами смешным стариком, подрывное мышление которого оказывается более современным, чем у большинства авторов, пошедших по его следам. Лейтмотив его высказываний: радикализм и новаторство в искусстве — вещь крайне относительная, каждому поколению представляющаяся по-своему («Сегодня молодое поколение воспринимает все с такой убийственной серьезностью, что даже от сюрреализма скулы скукой сводит»). Очевидно, подобные беседы представляются Дюшану частью той же игры, которая когда-то позволила ему порвать с традицией и объявить искусством то, что им никогда не являлось.
В силу этого игрового модуса в книге нет почти ничего, о чем действительно хотелось бы узнать. Отношение прошлому (к футуристам, одновременно с Дюшаном разрабатывающим идею движения) и настоящему (к Роберту Раушенбергу и Джасперу Джонсу, говорящим о влиянии Дюшана на них) остается за кадром. А одни из самых любопытных бесед оказываются посвящены зрителю как не менее важному актору в процессе производства искусства, чем художник («Взгляда художника на его собственное произведение недостаточно»), умению фантазировать и шахматам, которыми Дюшан увлекался всю жизнь.

Иосиф Бакштейн. Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве
М.: Новое литературное обозрение, 2015
Иосиф Бакштейн проделал путь от адепта узкого круга андерграундных художников до представителя современной художественной номенклатуры, создавшей на постсоветском пространстве институциональный ландшафт. Однако человек, стоявший у истоков института кураторства в России, в отличие от, скажем, Виктора Мизиано, с которым Бакштейн изначально разрабатывал концепцию Московской биеннале, долгое время пренебрегал письменным жанром. «Внутри картины» — это первая попытка систематизировать его опыт и представить как цельную систему взглядов и ценностей. Причем попытка, хотя и не слишком удачная, но все же весьма и весьма любопытная.
Книга представляет собой развернутый комментарий к художественной действительности рубежа XX–XXI века, составленный из эссе, некогда написанных для каталогов, бесед с художниками и интервью самого Бакштейна. В одних он рассказывает о советских художественных буднях, в других — вступает в диалог с Андреем Монастырским и Ильей Кабаковым. Но неизменно во всех ипостасях — автор, интервьюер, интервьюируемый — Бакштейн скрывается за ролью интерпретатора, подрывая изначальный замысел книги, артикулированный в аннотации: представить «портрет автора на фоне эпохи». Ему ближе функция толмача, имеющего дело с пространством «внутри картины», «откуда исходят все замыслы, интенции, возможности». Причем Бакштейн-интерпретатор занимается примерно тем же, чем и Бакштейн-куратор: прочерчивает линию от советского опыта к сегодняшним практикам — с акцентуацией на московском концептуализме. В этих текстах, конечно, нет места историзму. Зато присутствует то, что Бакштейн умеет аккумулировать лучше многих, — чувство причастности к некоей «большой истории» и большим — под стать ей — проектам.

Ирина Врубель-Голубкина. Разговоры в зеркале
М.: Новое литературное обозрение, 2014
Книга «Разговоры в зеркале» заставила вновь заговорить о месте и статусе тех культурных героев, которых она вынесла на поверхность информационного процесса. Открывает «Разговоры…» беседа главного редактора русскоязычного израильского журнала «Зеркало» Ирины Врубель-Голубкиной с Николаем Харджиевым — знаменитым коллекционером, историком и одним из главных ревнителей русского авангарда, знакомцем ключевых для культуры XX века персонажей в диапазоне от Малевича до Ахматовой. В коллекции Харджиева хранились архив теоретика Михаила Матюшина и его жены, поэтессы и художницы Елены Гуро, автобиография и документы Эль Лисицкого, бумаги Казимира Малевича, рукописи Алексея Крученых и многое другое, что впоследствии было утеряно и разграблено при переезде в Амстердам. Именно он задает тон всей книге, выводя на сцену Татлина, Малевича, Ларионова, Родченко — со всем их склоками и разборками.
Напрямую беседы между собой не связаны, но косвенно, разумеется, рифмуются. Книга петляет от Харджиева к Эмме Герштейн, встревающей в ссору коллекционера с вдовой Мандельштама, а от нее — к Илье Кабакову, Эрику Булатову, Саше Соколову и Павлу Пепперштейну. Сквозной сюжет: переход от первого авангарда — ко второму, на взращивание легенды которого Михаил Гробман (поэт, муж и соавтор Врубель-Голубкиной) потратил немало сил. А своего рода связующим звеном становится дух интеллигентной беседы — остроумной, балансирующей на границе увлеченного спора и ссоры. Самое же любопытное в книге — постоянная смена ракурса, с какого тот или иной герой оценивает одни и те же художественные явления.