Александра Паперно: «Руина — это пространство, в котором прошлое не кончается»
9 декабря 2019 года (то есть уже сегодня) в 19:00 в Образовательном центре Московского музея современного искусства пройдет презентация каталога художницы Александры Паперно «Любовь к себе среди руин». Это издание — продолжение одноименного выставочного проекта, прошедшего в 2018 году в пространстве флигеля «Руина» Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева. Художница видит в руине символ концентрированного прошлого, в котором слились образ самосознания культуры, рефлексия, ностальгия и меланхолия. «Артгид» публикует фрагмент беседы Александры Паперно с куратором Екатериной Иноземцевой, в котором идет речь о «руинированности» как темы для различного культурного производства.
 Александра Паперно. Фото: Анастасия Соболева
Александра Паперно. Фото: Анастасия Соболева
Екатерина Иноземцева: Оказавшись среди твоих работ в пространстве флигеля «Руина», я вдруг четко поняла, что для меня они существуют как бы в двух измерениях. Первое связано с их безусловной (иногда демонстративной) «сделанностью» и высокой, скажем так, адаптивной способностью к самому широкому вкусу — «цвет радует глаз» и что там ещё по списку тех, кто видит в искусстве декорации. Другое, особенно сильно проявляющееся в вещах последних пяти — семи лет, связано с широким референтным полем европейской культуры, с обманчивой безусловностью той системы координат, которая определяет художественную практику и художника как такового. Собственно, здесь, на выставке, это второе начало доходит до высшей точки: сама руина как базовый образ и символ европейской цивилизации, легитимизованные романтической эпохой меланхолия и тоска по культурной цельности, сломанная колонна, которая происходит из исторического анекдота (хотя это быль!) про Курбе, пустотная живопись с незаселенными (оставленными?) пространствами, если человек там вообще предполагается, отменённые астрономическими советами созвездия (акция в духе ОБЭРИУтов) и так далее. Выглядит так, будто ты иронично настроена по отношению к таким сбоям, и как будто настаиваешь на условно-символическом происхождении и бытовании культуры и соответственно механизмов, которые всё это запускают. При этом ты не рвешься, так сказать, вовне — неважно куда, в стихийное, более театральное, агрессивное, тебе комфортно в этих семиотических рамках, в ситуации разрушенных — точнее, сбоящих — внутризнаковых отношений.
Александра Паперно: Относительно первого измерения я бы не преувеличивала — цвет, который радует твой глаз, когда я училась в Cooper Union, у моих сокурсников вечно назывался that depressing Eastern European colour. Так что все не совсем как в поговорке «на вкус и цвет», — товарищи есть, но их меньше, чем можно было бы подумать. Что же касается руины — да, в процессе работы над выставкой она постепенно стала не только местом, но и темой (не данный конкретный флигель «Руина» музея Щусева, а само понятие «руина» в разных его значениях). Конечно, руина — это пространство, в котором прошлое не кончается, это образ самосознания культуры, рефлексии, ностальгии и меланхолии. Руина — знак идеологии Просвещения, как и «любовь к себе» в некотором роде. С другой стороны — «руины врут», как утверждает искусствовед Иван Чечот в начале своей лекции о руинах и музеях[1]. И в самом деле они одновременно дают нам иллюзию аутентичности и своей незавершенностью формы (парадоксальным образом это слово применимо к руине) предоставляют волю фантазии и интерпретации, а когда история постоянно переписывается, прошлое становится не менее непредсказуемым, чем будущее.

Тема незавершенности интересна — в Музее Метрополитен два года назад проходила выставка Unfinished, на которой были представлены сотни живописных произведений от античности до наших дней, незаконченные по всевозможным причинам: в каких-то случаях жизненные обстоятельства или смерть художника предотвратили завершение картины, некоторые были примерами non-finito, а одна из самых ярких историй — про Тёрнера, который обнаружил у себя в мастерской стопку собственных ранних незавершенных пейзажей и так они ему понравились, что он не только счел их законченными, но и в дальнейшем изменил свою живописную манеру под влиянием этих найденных работ. На этой выставке становилось очевидно, что современному пресыщенному глазу гораздо легче воспринимать незаконченные произведения — зачастую они обладают сегодня большим эффектом. То же самое можно сказать и о произведениях, которые изначально не намеревались быть произведениями искусства, хороший пример — это зарисовки искусствоведа Анатолия Кучумова, сделанные во время войны: на них изображены величественные эрмитажные залы с опустевшими рамами на стенах. Эти рисунки, изначально бывшие, скорее, документом, сейчас производят более сильное воздействие на зрителя, чем большое количество ценимых в свое время произведений. Подобные преобразования восприятия интересны. То же самое касается, например, понятия «художник» — с одной стороны, это вроде профессия, знакомя друзей, можно сказать: «Это Миша, он врач-кардиолог, а это Вася, он — художник». С другой — когда тебя спрашивают: «А чем вы занимаетесь?», как-то глупо отвечать: «Я — художник». Ты, наверное, тоже не отвечаешь «Я — куратор», но ты хотя бы можешь просто сказать: «Я в музее работаю», а там уже слово за слово расскажешь, что ты делаешь. А вот я всегда теряюсь и не знаю, что ответить — художником себя назвать сейчас совсем неприлично, не находишь?

Е.И.: Куратором еще больше неприлично. Даже выписанная Зееманом индульгенция в виде «делатель выставок» (я выставки делаю, Ausstellungsmachen) не спасает. Какая-то новейшая профессия, возникшая из суммы новых обстоятельств и конъюнктур. И иногда любви к художникам. Любопытное рассуждение про незавершенность — незавершенность как синоним нестабильности, незакрепленности или, точнее, открытой структуры, гарантирующей свое присутствие в будущем времени, потому что, в отличие от смерти, процесс угасания, сворачивания и завершения практически бесконечен. Он уверенно завоевывает время и подчиняет его. Изобретательный конструкт вполне в духе позднего Просвещения. У тебя в работах тоже есть этот элемент — сознательно выбранного незавершения. Например, то, с чего началась узнаваемость твоих работ, — «Серое солнце», так свободно и здорово накрашенное серым тондо. Употребляю твое слово «красить», я ни разу от тебя не слышала другого по отношению к собственной живописи. Сейчас на выставке три тондо — и, собственно, тут обнаруживается «искусственность», «культурность» этой самой незавершенности. Идеально повторенное (утроенное) тондо показывает, с одной стороны, сомнительность абстрактной живописи, свободного, стихийного, а значит, однократного жеста, а с другой — тренировку тёрнеровской расчетливости, если угодно — «вот эти акварели сгодятся на потом». Твой триптих уже как бы выяснил отношения со временем, его в принципе можно повторять, он готов к воспроизводству, рецепт незавершенности опробован и работает. Не хуже, чем с руиной. Как тебе кажется, что еще из работ на выставке попадает в этот контекст культурной, творимой незавершенности? Или, возьмем шире, какие еще смыслы открывает для тебя руина?
А.П.: Ну, слово «красить» поколенческое, наверное, в моем детстве все так говорили — это такое сбивание пафоса слова «писать». А может, прямой перевод английского to paint. Как-то друг-художник ужасно меня ругал за этот фамильярный жаргон из художественной школы, но какое он предлагал слово использовать — не помню. Впрочем, после стольких смертей живописи, наверное, действительно уже нужно возвращаться к глаголу «писать», зато теперь никак нельзя употреблять слово «художник» от первого лица — вот так все нестабильно, постоянная девальвация и реабилитация слов происходит. Любопытно, что в русском не только глагол «писать» не происходит от слова краска, но и слово «живопись» тоже не касается материальной стороны вопроса. Получается, что живопись у нас ближе к письменности, чем к краске, и это понятно, ведь иконы — это знаковые системы. Ну а пришедшая в Россию масляная живопись принесла и само слово, указывающее на жизнеподобность этой техники. Кстати, интересно, что в конце XIX века книга французского астронома Камиля Фламмариона Astronomie Populaire, полная красивых технических рисунков и гравюр, в русском переводе вышла под поэтичным названием «Живописная астрономия» и только начиная с третьего издания стала «Популярной астрономией» (название, указывающее на общедоступный жанр этой книги, лежащей у истоков научпопа).

Что касается незавершенности, в контексте руины она предстает в обратной перспективе. Очень наглядно было видно на той же выставке в Метрополитен, что в течение XX века понятие «незавершенности» постепенно исчезало, выбор произведений в последних залах выставки был самыми спорным и вызывал много вопросов, во второй половине века так много произведений стало подходить под понятие unfinished, что выбор куратора выглядел будто случайным. И как в XVIII веке, конец большой эпохи вернул моду на руины — постмодернистская архитектура ими изобилует, сразу вспоминается давно разорившаяся американская сеть универмагов BEST — супермаркеты с руинированными фасадами, которые в 1970-е для них построило архитектурное бюро Sculpture In The Environment (SITE). Ну и группа Einstürzende Neubauten, деконструктивизм в философии, моде, даже фасад первого «Макдоналдса» в СССР на Пушкинской площади был украшен примитивной, но все же псевдоруиной: над главным входом фирменная полимерная черепица трескалась и сквозь неё прорезалась стеклянная хайтековская пирамида. Руина стала большой темой, практически общим местом, и это понятно — образ руины в период деиндустриализации и распада Восточного блока перестает быть романтическим, отсылающим к далеким свершениям человеческой воли и природы, берущей реванш, и становится самым что ни на есть реалистическим — к концу ХХ века городской житель окружен руинами.
Кстати, странная история с отмененными созвездиями тоже в каком-то смысле про наше стремление к завершенности, порой абсурдное, ведь этот список — несуразный памятник времени, когда всё должно было быть международным и окончательным. Человеческое воображение когда-то нарисовало эти образы на небосводе, возможно, это даже было первой абстракцией, созданной человеком. А в 1922 году, повинуясь модернистским веяниям, было принято решение зачем-то созвездия унифицировать — при том, что в научных или утилитарных целях ими никто уже давно не пользовался. Это же практически всё равно, что некоторых греческих богов взять и отменить.
Созвездия — история про свет, а антитезой ей на нашей выставке служит история про тень — работа с фотобудкой Umbra picturа (антоним — Lux picturа[2]). Изначальным импульсом для нее послужила даже не незавершенность, а неначатость — на картине Гелия Коржева «В дни войны» изображен художник в шинели, сидящий перед пустым холстом, как бы неспособный приступить к работе — «когда говорят пушки, музы молчат». Но холст на самом деле не пуст, на нем видна тень художника, заметив которую, вспоминаешь миф о происхождении живописи, возникшей благодаря тени, как считали в Древней Греции. Согласно Плинию Старшему, дочь гончара Бутада, которого считают одним из первых древнегреческих скульпторов, узнав, что ее возлюбленный уходит на войну, решила очертить контур его профиля по тени, чтобы образ любимого был всегда с ней. Я поставила у себя за спиной лампу и стала делать нарциссические варианты так называемой скиаграфии — автопортреты. Но на выставке решила использовать фотобудку, чтобы пригласить зрителя тоже заняться любованием своей тенью. Три года назад, когда в Третьяковке проходила большая выставка Гелия Коржева, картину «В дни войны» на нее не привезли, был только эскиз 1953 года. В отличие от картины, сделанной в 1954 году, после смерти Сталина, на эскизе холст вовсе не пустой и художник не сидит с опущенными руками, а довольно лихо «красит» Сталина. По всей видимости, «значимое отсутствие» у Коржева было не идеей картины, а удачной случайностью из-за сложившихся обстоятельств.
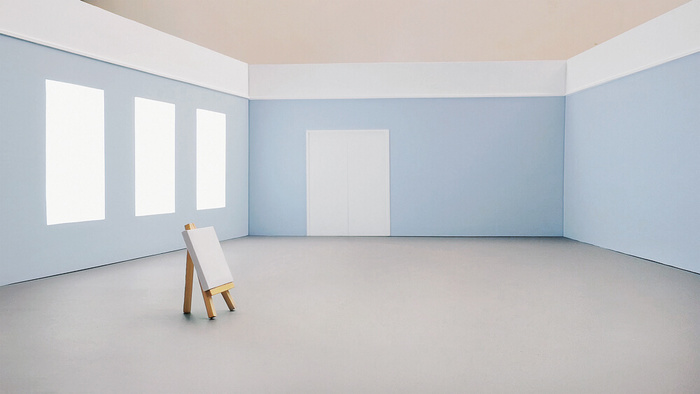
Е.И.: Я хотела бы остановиться на одном моменте твоего рассуждения, касающегося «руинированности» как темы для различного культурного производства, которая, как ты говоришь, стала общим местом. Характерно, что эстетика «останков мира», возрождения руины как образа и идеи приходится, очевидно, на начало — середину 1990-х годов. Как мне кажется, это связано с очередной волной скепсиса по отношению к идее будущего, не с кризисом прогрессизма — с ним более или менее всё ясно, начиная с энтропии авангардного проекта, — а с невозможностью сценария будущего и для будущего. Вспомни, насколько устойчивы оказались в выставочной и художественной практике последнего времени различного рода «ностальгии» и обращения к прошлому — от советского до дремучей архаики. Получается, что руина как образ — это пристанище или форма органической жизни для многих современных практик. И я думаю, что дело тут как раз во временном измерении, руина неизбежно корректирует отношения со временем — по большому счёту руина, конечно, не пространственный, а временной эксперимент. Чувствуешь ли ты некоторую специфику твоих отношений со временем в руине или вообще с условным прошлым? Именно условным, потому что ты реактуализируешь в своей практике очень много сюжетов и состояний, втаскивая их в зону, которая доступна для восприятия современным зрителем.
А.П.: В 1990-е был недолгий период мощной энергии распада, и, во всяком случае у нас здесь, было так много сиюминутных проблем, связанных с достижением звездочетовской «нормальной цивилизации» и просто с выживанием, что потеря «прекрасного далёка» по-настоящему прочувствовалась лишь с наступлением нового века, который не так давно начался, fin de siècle затянулся. Вообще, руина, на мой взгляд, отчетливо возвращается в культуру раньше — с крушением модернистских идеалов. В Советском Союзе в период застоя в искусстве возникло, например, движение некрореалистов, в руинированном финансовым банкротством Нью-Йорке несколькими годами раньше — так называемое Pictures Generation, которое как бы отказывалось от создания новых образов в пользу переработки уже существующих. В нашем мире главной опасностью стала не нехватка, а пугающее изобилие, булимия — наш глаз каждый день видит в миллионы раз больше образов, чем когда-либо можно было представить. Потоки изображений, развитие технологий, весь этот copy-paste со временем изменили оптику восприятия и мои работы также, конечно, являются продуктом этого мышления. Прошлое вообще стало условным, оно постоянно мутирует. Очень много информации, мнений, самовыражения, художников, и это все — совершенно новая реальность. Ну а сюжеты, про которые ты говоришь, для меня это такие сполии, точки опоры.

Тема руин в XX веке возникала, конечно, и гораздо раньше — она очень занимала Альберта Шпеера, которому было крайне важно, чтобы от величественных памятников его эпохи остались не менее величественные руины, подобные римским, а не бетонные крошки и арматура — сухой остаток модернистской архитектуры, темпоральной по своей идее. И очень интересно отношение к разного рода «новым» руинам и архитектуре в целом, вернее даже, разные возможные отношения к ним в тот или иной период. Не так много уцелело основных архитектурных сооружений Третьего рейха, но то, что осталось, немцы все же не стали сносить, а поставили на карантин — стали бороться с ними путем максимально неподходящего использования этой архитектуры, сбивая таким образом ее пафос. В Москве еще в нашем детстве сталинские высотки обзывали «мамонтами», и было принято их не любить и считать наследием страшного времени репрессий, но карантин завершился достаточно быстро, и уже в 1990-е квартиры в «сталинках» стали самой дорогой недвижимостью. В других странах Восточного блока эти процессы протекают с совершенно разными скоростями — в Варшаве вот уже 30 лет не знают, что делать с Дворцом культуры и науки — после того как не нашелся безопасный и экономически оправданный способ его снести, стали его обстраивать-маскировать небоскребами. Об этом мне напомнила история с Курбе и злополучной Вандомской колонной, которая так раздражала прогрессивно думающих людей, а теперь стоит себе и ни для кого не является символом зла — карантин давно прошел. «Сломанную колонну» мне подсказало пространство музея, в котором между вторым и третьим этажами нет перекрытий и туда так и просилась какая-то вертикаль, которая пройдёт сквозь деревянные балки. Мне вспомнилась гравюра падающей Вандомской колонны, во время Парижской коммуны 1871 года снесенной под руководством Гюстава Курбе, который в то время был назначен комиссаром по культуре. Эта акция, за которую Курбе впоследствии отсидел тюремный срок, а затем был вынужден бежать из Франции, была задокументирована многочисленными фотографами и граверами. Моя гипсовая колонна получилась перевертышем руины, которая всегда стремится к горизонтали.
Любопытно, что Курбе, со всем своим бунтарством, «живым искусством», «Павильоном реализма» и, парадоксальным образом всё ещё тревожащим общественную мораль, «Происхождением мира», нарциссичный одиночка по натуре, с бесконечным количеством автопортретов — я не искусствовед, но мне кажется, мало кто из его предшественников мог сравниться с ним по количеству автопортретов. Интересно поговорить о «любви к себе», теме самовыражения и самолюбования новоевропейской культуры, чему обязано возникновение Ruinenlust и, в каком-то смысле, вообще искусства в современном понимании. На днях я смотрела книжку про Владимира Слепяна, и первое положение в его манифесте звучит так: «Искусство не может быть для человека средством самовыражения». Как думаешь, эта идея устарела или же, наоборот, важна, как никогда?

Е.И.: Я зацеплюсь за «самовыражение в искусстве» — кажется, это то, о чем сегодня и правда имеет смысл говорить. Фактически все искусство XX века (его наиболее видимая и в итоге конвенциональная часть), следуя логике зрелого модернистского проекта, последовательно искало некое объективное основание, изживало и нейтрализовало пресловутую индивидуальность. Более того — индивидуальное, а уж тем более чувственное оказалось в зоне табу. Искусство в кровь боролось за онтологический статус, чтобы сейчас, в очередной раз, как мне кажется, в каноне так называемого метамодернизма вернуть художнику право на «самовыражение». Для меня эта мысль синхронизируется с рассуждением философа Мишеля Серра[3] о том, что в эпоху вседоступности и неиерархичности знания, единственно ценный ресурс — оригинальность мысли, поиск новых креативных решений и тому подобное. Сегодня, мне кажется, человеческое сознание сильнее, чем когда=либо, ориентировано на персональное — в ситуации невозможности или принципиального множества истин только непосредственность чувственного переживания рождает ценный опыт. Человек теперь склонен доверять и следовать своему личному ощущению, восприятию, поэтому мысль о «любви к себе» не кажется архаичной, принадлежащей только романтической эпохе. Тем более, что, в отличие, например, от конца XVIII — начала XIX века, сегодня не происходит подмены знания о мире субъективным впечатлением (вспомни хотя бы юного Вертера, который видел гармонию в мире тогда, когда находился на пике влюбленности, и чем обернулось любовное разочарование), сегодня эта самая субъективность — modus operandi, спасительная штука на фоне распадающейся на мелкие фрагменты реальности. Тебе так не кажется? Мне, кстати, страшно любопытно, что ты ответишь, потому что готов следующий сюжет — как эта самая «любовь к себе» бьется с фактурой, поверхностью твоих работ, которые существуют в странном зазоре между как бы нейтральностью, вот таким дыханием на поверхности, и иногда очень индивидуальным, резким жестом.
А.П.: Субъективность — неотъемлемая особенность живописной техники, которая априори физиологична, всегда является результатом конфликта мысли и физического движения, живопись — как почерк, в котором всегда видно иррациональное личное начало. В детстве знаешь точно, что и как хочешь нарисовать, а получается что-то совсем другое, и это ужасно бесит, а потом со временем, конечно, и технические способности растут, но и оценивать их начинаешь по-другому. По-настоящему ценен в живописи зазор между тем, что ты придумал, и тем, что сделал, я люблю фразу Гертруды Стайн if it can be done, why do it — то есть делать конечно же имеет смысл только невообразимое. Относительно противоречия между индивидуальной чувственностью и дотошной продуманностью, оно во мне из года в год усиливается и я пока не знаю, как об этом говорить и стоит ли; вообще, я стала думать, что вовсе не обо всем имеет смысл говорить.
Что касается оригинальности мысли — это и есть иерархия (возможно, единственная существующая). Во времена больших перемен системы резко устаревают, не успевают за изменениями в обществе и в человеке. Конечно, изобретения происходят не благодаря системе, а вопреки, но её наличие крайне важно, и в некотором смысле мое видео из серии «Урок рисования» отсылает к этой теме. Вряд ли новая вседоступность знания, индивидуализм с лайф-коучами и рекламными слоганами «потому что я этого достойна» располагает к развитию независимого мышления. Оригинальность всегда радикальна, не комфортна, она всегда «против шерсти», в каком-то роде оригинальность мысли — это насилие, которое и создает культуру. В современной разобщенности и индивидуализме Серр видит ценность в том, что люди не готовы жертвовать не только своей жизнью, но даже комфортом ради сверхидей, пусть самых идеалистических и гуманистических, приведших к миллионам жертв в ХХ веке. Нас действительно разделяет бездна с искусством модернизма — в первую очередь потому, что оно сделано совсем другими людьми. Огромная часть искусства ХХ века создано художниками, воевавшими в Первой или Второй мировых войнах, зачастую добровольцами — это физиологически другие люди, с другим отношением к смерти, к боли, к телу. Человек никогда не был так свободен от своего тела, как сейчас, — когда мы здоровы, мы можем о нём просто не думать, и это тоже делает нас другими существами. Как будет развиваться искусство в этих новых условиях — мы можем только предполагать. Самовыражение, лишенное оригинальности мысли, считалось графоманией, но вроде и это понятие устарело и даже некорректно — обещания Уорхола сбываются. Демократия и свобода информации привели к тому, что «в театре не осталось зрителей — он полон актёров», границы настолько размыты, что легче определить, что не является искусством, чем то, что им является. Синди Шерман и Владик Монро накликали нам миллиарды фотографирующих себя людей, я видела мусульманских девушек в чадрах с палками для селфи у Айя-Софии. Самовыражение становится самосозерцанием, возможно, сейчас привлечь внимание может только прямое политическое высказывание. С одной стороны, эта перспектива мне неприятна, с другой — количество производимого искусства пугает так же, как, например, количество производимой одежды или еды, отправляющейся в помойку. Тебе так никогда не кажется? Я часто думаю, что мне повезло, что я живу в провинциальном в смысле современной культуры городе. Вот мы с тобой очутились в Берлине на Gallery Weekend, и от количества увиденного меня как будто силы покинули на какое-то время. Или недавно я случайно оказалась на дипломной выставке венского Universität für angewandte Kunst и это тоже, по-своему, испытание — там огромное трехэтажное классическое здание завешано и заставлено сотнями работ студентов. Качество великолепное, многие работы хорошо придуманы и сделаны — несколько десятков вполне можно сразу на биеннале и в музей отправлять, а это только один год, в следующем будет то же самое. Что ты думаешь об этом процессе?
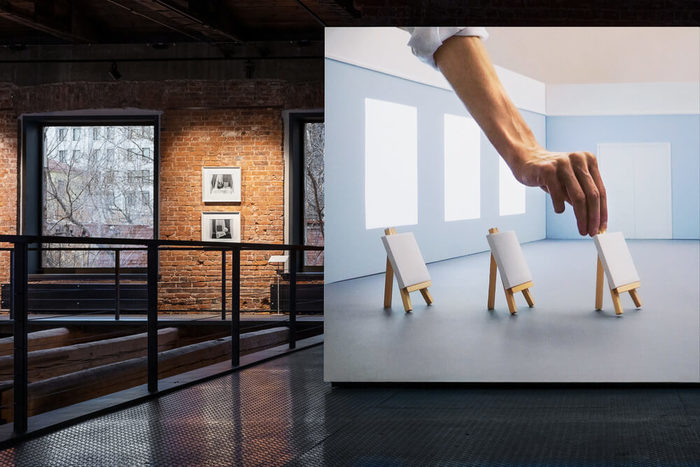
Е.И.: С одной стороны, мне не по себе, и включаются какие-то охранительные механизмы. Потому что из фокуса уходит сам факт искусства и так точно озвученная тобой оригинальность, которая всегда неудобна и неожидана. Я раньше с особым пристрастием изучала списки художников на всех биеннале, а в последнее время это как бы гарантированная ситуация; кто там появится и в какой итерации (в зависимости от концепции и географии проекта) — в принципе не так и важно. Такая вот художественная «гипернормализация», и конечно, главный вопрос — откуда и как может прийти новая энергия, через что и какие поры просочится то, что система не сможет переварить?.. Впрочем, вернемся к твоему «невообразимому». Расскажи, как в твоих работах появился сюжет, связанный с различными советскими артефактами: сначала фактуры (плитка и прочее), потом такие пространственные идеологемы вроде планов типовых квартир в массовой застройке и тому подобное? Уместно ли говорить о том, что твое пребывание в США обеспечило некую дистанцию, фигуру отстранения и у тебя перенастроилась оптика по отношению к советскому?
А.П.: Конечно, советское наследие — часть нашей повседневности, и, будучи частью последнего советского поколения, с возрастом я все больше начинаю ощущать себя частью этого наследия. Но я долгое время старательно избегала всего советского или специфически русского в своих работах. Не потому, что мне это неинтересно; это, скорее, была реакция на сложившуюся и ставшую очевидной на наших глазах ситуацию. Если в советское время казалось, что единственное, что отделяет нас от прекрасной мировой культуры, — это советская власть, то впоследствии стало совершенно очевидно, что границ и преград в мире (в том числе в мире культуры) гораздо больше, чем можно было представить, находясь за железным занавесом, и политика гораздо больше влияет на процессы в искусстве, чем искусство на политику. И в «свободном мире» предшествующее мне поколение художников оказалось не просто художниками, а советскими художниками (а потом русскими, украинскими, грузинскими и так далее). Многие быстро поняли, что, не представляя Россию в образе общественного туалета или себя в образе дикого русского mujik, успеха за границей ожидать бессмысленно и стали играть эту роль, каждый в свою меру находчивости и таланта. Потом, по мере расширения ЕС и возгорания конфликтов в постсоветских республиках, на мировой арене стали появляться и другого рода художники: помню, в год вступления Польши в Евросоюз волну выставок никому до того не известных поляков, и это вызывало смешанные чувства, было радостно за хороших художников и грустно от очевидности механизмов происходящего, от того, насколько это не имеющие отношения к культуре процессы. Окончив школу и институт в Нью-Йорке, я прекрасно понимала, если задуматься о страшном слове «карьера», передо мной предстают совершенно разные пути — если, оставшись в Нью-Йорке, я могла использовать свою «русскость» или не использовать, то, вернувшись в Москву, я автоматически получала в нагрузку определенный контекст, и меня это, безусловно, раздражало. Поэтому советские артефакты стали появляться в моих работах тогда, когда я перестала зацикливаться на истреблении их из своих работ.

Примечания
- ^ Чечот И. Музеи и руины. Судьба «Данаи» Рембрандта и ее нынешний статус / Доклад на конференции «Руина, фрагмент, кристалл: о целом и едином в современной теории и практике искусства». Сакнт-Петербурге, СПбГУ, Факультет свободных искусств и наук, 9 апреля 2015.
- ^ «Письмо светом», «фотография» (лат.).
- ^ Michel Serres, Petite Poucette, Éditions Le Pommier, 2012.




