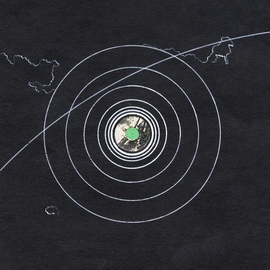Обман зрения. Разговоры с Элом Казовским
«Издательство Ивана Лимбаха» подготовило сборник, куда вошли девять интервью с ведущим художником Венгрии второй половины XX столетия Элом Казовским (1948–2008). Эл Казовский (Елена Казовская) родился в Ленинграде 1948 году в семье искусствоведа Ирины Путоловой и физика Ефима Казовского. После развода родителей будущий художник жил с бабушкой и дедушкой в Нижнем Тагиле; а когда его мать вышла замуж за венгерского архитектора Лайоша Шкоду, переехал в Будапешт. Там он закончил факультет живописи Венгерского университета изобразительных искусства, а затем — высшие художественные курсы (там, кстати, преподавали известные венгерские живописцы Дьёрдь Кадар и Игнац Кокаш). Уже в юности Эл Казовский, который много работал в качестве театрального художника и режиссера, открыто говорил о своей сексуальной ориентации и именовал себя в мужском роде. С любезного разрешения издателя мы публикуем фрагмент записанной в 1991 году беседы Эла Казовского с историком искусства Каталин Кешерю в переводе с венгерского Оксаны Якименко.
 Эл Казовский. Фото: Czimbal Gyula
Эл Казовский. Фото: Czimbal Gyula
«Чего я точно не могу представить, так это того, что я вообще не существую»
Каталин Кешерю: В первую очередь хотела бы тебя спросить про воспоминания, связанные с античным собранием Эрмитажа, с произведениями, которые ты там видел. Что значили для тебя эти экспонаты в детстве, что ты тогда о них знал? Что думаешь сейчас и почему именно эти произведения стали для тебя определяющими?
Эл Казовский: Последний вопрос самый сложный. Почему именно эти произведения привлекли мое внимание — непонятно. Вот что самое интересное. То, что мне сейчас об этом известно, тогда могло означать нечто совсем иное и со временем сгладиться. В любом случае я уверен: они — если взять местоимение «они» в кавычки, — эти скульптуры, предопределили мое будущее, они продолжают играть решающую роль в моем творчестве, подобно тому как литература девятнадцатого века сформировала мой язык. Правда, знакомство со скульптурой произошло у меня куда раньше, чем с литературой. И длилось оно всего три года — с трех до шести лет, я тогда приезжал в Ленинград и Москву только летом. Не сказать, чтобы я все время проводил в музеях, но по воспоминаниям — довольно много. И никто меня не заставлял, я совершенно точно сам все время просил, чтобы меня отвели в музей, хотя было чем заняться и без этого — у соседей поиграть, например. Меня там очень любили, да и мне у них нравилось бывать. Так что походы в Эрмитаж с мамой на целый день случались исключительно из-за моей ужасной настойчивости.
Главное, насколько помню, на картины я внимания не обращал, за исключением одной, о ней позже расскажу, — это отдельная, абсолютно фантастическая история. Этот факт уже сам по себе позволяет понять, как я устроен. Может, он все и определяет главным образом: сексуальные пристрастия, то, как я устанавливаю контакт с людьми. Судя по всему, ярче всего это проявляется именно в том, чему я отдавал предпочтение в самом раннем возрасте, на базовом, изначально данном уровне, а не тогда, когда начал мыслить более рационально. Смотрел же я на римские копии греческих статуй — настоящих греческих статуй там вообще не было. И оттащить меня от них было действительно невозможно. <А я отвечал: «Наполеон».> До сих пор, стоит мне увидеть настоящую греческую статую, часами могу на нее смотреть. В этом все Афины, я там целые дни в музеях провожу. Не выхожу из зала, пока не поглажу статуи. Приходится усыплять внимание музейных смотрителей — мне ведь обязательно надо дотронуться до статуи, погладить, где смогу дотянуться. Прикоснуться к материалу, из которого они сделаны, для меня — все равно что для былинного героя прикоснуться к земле, вновь набраться сил. Это желание, неумолимое, природное, своеобразное сексуальное желание, которое было во мне и раньше, но отсылает именно к тому, детскому, периоду и сегодня возникает в отношении очень и очень немногих римских копий. Оно и тогда было обращено только к ним. Названия предметов и, очевидно, имена богов я выучил именно тогда. Потому что мне сразу нужны были имена и названия всего подряд. Вплоть до статуй, которые украшают крышу Эрмитажа, — там стоят разные нимфы, фигуры, но мы их, конечно, не каждую в отдельности называли. Бедная мама — я ее про каждого бога, про каждую богиню расспрашивал. <…>
К.К.: Тогда еще спрошу: тебя влекла красота статуй, отличие богов от обычных людей?
Э.К.: Их телесность, холодная телесность. Идеальная. Белый цвет, материал — мрамор — очень важен. Так что все было не случайно. Сейчас я уже люблю не белый, а желтоватый мрамор, но изначально на меня подействовал именно белый. К коллекционированию я не склонен. Даже творения самого любимого художника не стал бы вешать дома — считаю, что они должны быть общей «добычей». Зато любые фрагменты греческих статуй, самые крошечные обломки — вплоть до кусочка пальца — готов хранить. Все до единого. Коленную чашечку, кусочек локтя. Не говоря уже о грудях и лицах. От них у меня буквально дыхание перехватывает. Это неумолимое физическое желание обладать красотой, источающее, кстати, ту же безнадежность, что и любое другое желание.
К.К.: То есть ничего другого ты в этом не ощущал?
Э.К.: Это было совершенно очевидное сексуальное влечение, так я его и зафиксировал. Все мои внутренние игры были завязаны на феминной сексуальности. Мне кажется, так у всех маленьких детей бывает. До семи-, восьми-, девятилетнего возраста ребенок играет в невероятно жесткие сексуальные игры — каждый по-своему, на разных территориях, с разными материалами. Потом наступает период асексуальности, он длится до подросткового возраста. Просто дети об этом первом всплеске забывают. <…>
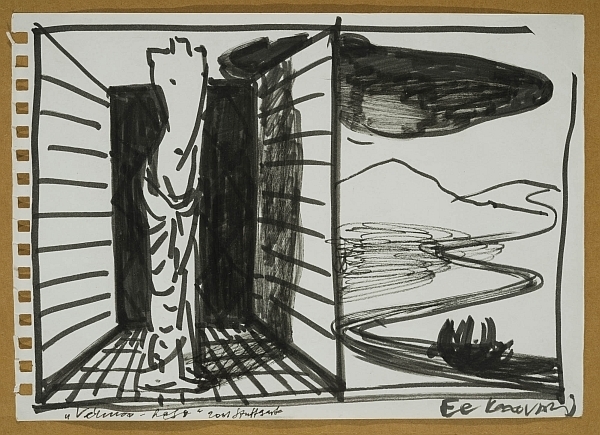
К.К.: Мифы были для тебя абсолютно живым миром?
Э.К.: Стопроцентно. Как это бывает у детей. И я тогда был ровно таким же ребенком, только эта возрастная история потом никуда не привела, ни во что не развилась. Максимум — в вечное желание стать офицером. Мужчиной-офицером, естественно, к тому же — с сознанием русского аристократа прошлого века. Увы, никакой связи с реальностью это желание никогда не имело. Настоящая мечта маленького ребенка. Тогда-то и сложилось, укрепилось во мне детское чувство мифа, похожее на своеобразное мифологическое сознание. Оно никуда не девалось, не отделилось, оно и сейчас определяет все самое главное в моей жизни. <…>
К.К.: То есть ты принял этот мир не только как достоверную, но как существующую модель?
Э.К.: Меня еще в старшей школе, да и потом всегда поражало, насколько эта модель человеческого существования жестока и идеальна, другую такую и не найдешь. В то же время в гимназические годы я пытался тешить себя надеждой. Не то чтобы я переставал ощущать мир таким, каким он выглядит в мифе об Эдипе. (Только надо убрать оттуда фрейдистское толкование — самое неинтересное и совершенно бесполезное. Речь там совсем о другом.) Просто пробовал поверить, будто жизнь полна противоречий и на самом деле не такая шаблонная, а судьба не сводится к единой формуле, но зависит от того, как человек ее видит и как называет, и что есть некая пестрая смесь, и она везде разная. Что случайность играет в жизни куда большую роль. И что человеку иногда везет, а иногда — нет, то есть жизнь неоднородна. Таким видит мир человек неверующий. Однако мне пришлось увидеть, что мир отнюдь не разнороден. И что судьба существует, пусть мне и сложно это признать, — хотя верующим я до сих пор, увы, назвать себя не могу. Не знаю, на чей счет следует отнести судьбу, но она существует: человек это испытывает на собственной шкуре. Судьбу просто видно — по моим ощущениям. Она проявляется в других людях как абсолютно ясная линия и с первой минуты выглядит как некий путь. По крайней мере я ее вижу. Я все время пытался найти какую-нибудь пленку, чтобы не видеть, но судьба все время проступала. И уйти от нее совсем я так и не смог. Мотив судьбы, ее присутствие нигде не ощущаются так остро, как в греческой мифологии. Но что откуда получается — непонятно. В самом начале действительно не ясно, что человеку определено. Может, все как раз наоборот, ведь все можно себе представить, все — лишь теория. Психологическая теория — тоже, только очень примитивная, но есть же теории куда более разработанные: физиологическая теория или теория о переселении душ, греческая теория судьбы. Они все говорят об одном, только на разных языках — как переводы одного оригинала. Я свою теорию судьбы, например, на любом языке могу сформулировать. <…>
К.К.: Мой следующий вопрос прозвучит странно: когда ты ребенком жил в России, ощущал ли ты в атмосфере или в своем окружении некое ожидание чего-то, что изменит мир? Или ты ничего подобного никогда не предчувствовал?
Э.К.: Конечно, было, но на совсем ином уровне. Я пошел в школу в потрясающее время. Тогда-то все и случилось. Я как раз учился в средней школе, когда Хрущев стал генсеком. Весь Нижний Тагил — а это и тогда был город ссыльных, только туда ссылали немцев и интеллигенцию, — все время читал газеты. Если не два, то один год точно — мы ничего не делали, только каждый вечер зачитывали друг другу все газеты подряд. Это было какое-то помешательство, головокружительный праздник. До наступления оттепели в обществе было некое ожидание, но я его, видимо, не чувствовал, я не этим жил. Атмосфера изменилась, подул ветер свободы. В больших городах это, может, и не так сильно ощущалось, но в моем окружении было очень заметно, ведь большинство представителей интеллигенции из поколения моих бабушек и дедушек до этого прошли лагеря. У каждой семьи был кто-то, кто умер в лагере. Да и в школе девяносто процентов родителей были из ссыльных. Хрущева все приняли с гигантским энтузиазмом.
Изменилось ли что-то в книгах, я не почувствовал — библиотеки у нас и до этого были прекрасные. Выходило очень много книг. В ближайшем к дому книжном магазине, куда регулярно ходило за новинками семей десять, можно было купить все; может, специально для нас и заказывали. Все, что душе угодно. Начиная с собрания сочинений Платона — любые академические издания. В этой области и предшествующая эпоха была хороша. Город был промышленный, никакой ненависти со стороны сельского населения я не испытывал. В глубинке отношения были ужасные, но это мне открылось много позже, когда я увидел, что происходило в деревне. Это отдельный мир внутри Советского Союза, и разница между двумя мирами огромна — как, например, между Венгрией и СССР. <...>

К.К.: Как ты относишься к Кандинскому и другим русским художникам? Ты читал книгу Кандинского «О духовном в искусстве» — она недавно вышла на венгерском?
Э.К.: В свое время, кажется, читал. Проблема в том, что она не показалась мне важной. Кандинского я очень люблю, но только немецкий период — мюнхенский. Правда, это любовь на очень элементарном уровне. Поскольку эта живопись далека от моей жизни, то не связана и с определенным конструктивным методом или мировосприятием. Зато близка по динамике. Пульсация, бешеная энергия, сильнейшая динамика — вот это мне у Кандинского как раз нравится, это явно есть и у меня, и даже в большей степени — у всей мюнхенской компании, у современников Кандинского, которые сумели выпорхнуть из Советского Союза. Некий первичный взрыв, который потом странным образом затухает в Америке. Там происходит тот же взрыв, только в замершей форме: взорванные кусочки застывают в воздухе, как на стробоскопической фотографии. В американском искусстве они фигурируют лишь как следы взрыва. Мне нравится этот взрыв, он кажется мне ужасно важным — как факт истории, да и ко всему авангарду я отношусь довольно серьезно. Хотя больше — как к историческому моменту. То, что накопилось с конца девятнадцатого века, было похоже на взрыв сверхновой звезды. Энергия была задействована невероятная. Однако личности, которые для меня важны всю жизнь — де Кирико или Бэкон, например, — находятся по другую сторону, среди авангардистов таких нет. Есть отдельные произведения или периоды. Или все вместе. С одной стороны, я очень прохладно отношусь к конструктивизму — у меня к нему чисто исследовательский интерес. С другой стороны, вся эта революционная романтика не просто далека от меня, я ее больше всего на свете ненавижу. Не из-за того, во что она превратилась, а потому что чувствую в ней какую-то изначальную лживость. И всегда чувствовал. В конце шестидесятых я и сам ее пережил, будучи старшеклассником. Но энергия в ней была настоящая, фантастическая — тут я готов снять шляпу. И космичность, конечно. Как эти художники выпрастываются, вырываются из космоса — даже не мыслями, а своим видением, — просто фантастика.
К.К.: Про «Духовное в искусстве» я спросил потому, что Кандинский много внимания уделяет черному цвету, звучащему как Ничто. Что ты об этом думаешь?
Э.К.: Мистическую природу цвета я вообще не чувствую. Для меня цвета — понятия, то есть я могу сказать: черный цвет — это то-то и то-то, сюда и трактовка Кандинского вписывается. Но на уровне чувств я цвет не ощущаю.
К.К.: Приведи пример понятийности цвета.
Э.К.: Все относительно. Назовем цвет. К нему можно подогнать, с одной стороны, явления, с другой — зрительные образы. Если взять, скажем, то, как я использую желтый, — совершенно очевидна его связь с опустошением, одиночеством, потому что он для меня отчасти олицетворяет пустыню. Но это гипотетическая пустыня. На самом деле она не желтая, это только такое представление, будто пустыня желтая. С другой стороны, желтое ассоциируется с теплом, отсюда еще одно теоретическое следствие, ведь мы считаем этот цвет теплым. И снова парадокс: лимонно-желтый цвет как ледяное тепло.
К.К.: Какие теории цвета тебе ближе: традиционные европейские (научные) или живописные? Содержание цвета отражает художественное содержание?
Э.К.: Безусловно. Но для меня это все равно «холодное» содержание, как содержание подчиненного, сопряженного явления.
К.К.: Судя по тому, как ты произнес это словосочетание, «холодное» в нем для тебя очень важно.
Э.К.: Это содержание не имеет мистического наполнения. Потому я и не знал, что делать с текстами Кандинского. Он переживает то, что переживаю и я, но у меня это не связано с теорией цвета. Для меня цвет значит меньше, чем слово. Хотя влияет, конечно, на уровне «нравится — не нравится», «влечет — не влечет», но того мистического очарования, которым обладает язык, для меня в цвете нет. А для Кандинского — есть. <…>
К.К.: Когда ты употребляешь слово «холодные» применительно к живописным средствам, к цвету, создается впечатление, будто традиционные живописные приемы, которыми ты пользуешься, всегда означают для тебя нечто иное, не то, к чему мы привыкли. Мы еще поговорим об этом в общих чертах, но прежде я бы хотела спросить, что такое для тебя, например, мазок. Ты можешь определить, наполнен ли он живописным смыслом, или это просто материал?
Э.К.: Мазок — да, материал — уже нет. Я тоже использую материал, в том числе и на самом первичном уровне, не только в конструктивном плане и отнюдь не только как часть заранее возникшего замысла. Но чувственная составляющая часто уходит из цвета, из композиции, потому что они всегда отвечают за сознательную сторону, за то, что я хочу картиной сказать. Но тут одна загвоздка: в картинах присутствует некая бессознательная реакция, в ней как раз чувственного сколько хочешь — и в мазке, и, конечно, в цвете. Но я в этом мало что понимаю, максимум — постфактум. Я отталкиваюсь от другого. А вот материал я воспринимаю на чувственном уровне. Я не случайно постоянно пишу маслом, никогда не пользуюсь порошковыми красками и ненавижу плоские, скучные синтетические материалы. Масляную краску обожаю — безо всякой мистики. Для меня источником мистических отношений с картиной или другим произведением искусства служат слова: с языком у меня связь очень насыщенная, на всех уровнях — духовном, эмоциональном. А вот с масляной краской — именно на чувственном. У нее есть плотность, поверхность, текучесть, блеск — это очень важно. Если я и ощущаю непосредственный контакт с материалом, то это отчасти контакт с холстом, с белой поверхностью, но тут еще очень важна хрупкость, которой обладает холст, его способность впитывать, своеобразное сияние. С другой стороны, у меня есть контакт с масляной краской, ее можно накладывать, намазывать руками, обращаться с ней вручную. Но здесь главное не цвет, а плотность краски.

К.К.: В связи с этим хочу спросить об одном противоречии: присутствует ли в твоих работах, которые часто характеризуют как беспристрастные, отстраненные, то, что Жигмонд Каройи[1] называл интимными отношениями с искусством? Из написанного о тебе возникает ощущение, будто для тебя настоящий материал — это живой материал, живое тело, живое представление, а не традиционные средства изобразительного искусства.
Э.К.: Живое — это суперматериал, наиматериальнейший материал, я говорю. Но с другой стороны, что человек берет для работы, то и материал, а это всегда конфронтация и сотрудничество, и между разными материалами возникают разные связи. Материалы можно любить и не любить. Настоящим скульптором в классическом смысле я не могу стать не только потому, что слишком люблю мрамор (а еще отличаюсь особым видом лени), но и из-за чересчур трепетного отношения к материалу — до такой степени, что прикоснуться к нему не могу. Когда скульптура закончена, она мне очень нравится, но нарушить целостность столь прекрасного материала я не в состоянии. Поэтому любить материал надо так, чтобы можно было с ним работать, — то есть не безоглядно. С красками у меня как раз хорошо получается, я их люблю — но не до такой степени, как камни, например.
К.К.: Мы уже говорили с тобой об отстраненности. Недавно я прочла одну работу Акоша Силади о позиции современной культуры. В тексте, опубликованном в журнале «Восточная Европа», речь идет о Солженицыне, о том, насколько он серьезен и начисто лишен юмора. По мысли Акоша, тот, кто лишен иронии духа, позволяющей подняться над собственным положением, кто не способен смеяться, чтобы избавиться от безысходности и наладить контакт с другими людьми, становится пугающе претенциозным и как личность, и как писатель. У меня такое впечатление, что для значительной части русской литературы девятнадцатого века характерно отсутствие иронии, но и ограниченной ее при этом нельзя назвать. И при этом она мрачная в силу своей безысходности. В твоих работах — для внешнего наблюдателя вроде меня — есть похожая черта. Зритель никогда не видит в них ни юмора, не иронии, скорее абсолютную серьезность. В этой серьезности, трагичности есть что-то…
Э.К.: Какое слово ты хотела сказать? Детское? Его настолько много в том, как я устроен, как я вижу, что и в картинах наверняка есть. Другое дело, что ирония там тоже точно есть. Может, ирония и не вполне мне свойственна изначально, но по складу ума я отнюдь не лишен иронии, напротив, у меня уже в раннем возрасте сформировалось ужасно ироничное отношение к самому себе — как результат чрезмерной рефлексии. Она заставляет все ставить в кавычки. В мире очень много кавычек. И я использую их в картинах. И кавычки никуда не деваются. <…>
К.К.: В современной культуре, культуре двадцатого века, можно заметить, как изменилась теория трагического и катарсиса применительно к сути произведения искусства. В абсурдистской драме катарсис исчезает, потому что произведение стало чем-то совсем другим. Сам катарсис теперь неоднозначен, да и достигается он иными средствами. В отличие от прежнего трагизма или трагического подхода, мы сейчас имеем его противоположность, основанную на иронии. Когда ты сводишь воедино всю европейскую культуру, может получиться ироничный образ, но в конечном счете он еще и трагичен. Трагическое возникает не из ситуации, но из перечисления ситуаций или их объединения. Можно ли это назвать иронией?

Э.К.: Ирония для меня означает нечто ограниченное. Она распространяется на бытие человека, на его психологическое, социальное, любое закрепленное состояние. На космическое бытие человека ирония не действует — там нет предмета иронии. По отношению к чему там иронизировать? И потом, ирония идет не изнутри. Получается, что она, с одной стороны, может распространяться лишь на очень определенные сферы, а с другой — не является внутренней идеей. Иронизируя, человек словно бы смотрит на себя не с человеческой точки зрения. В нашей культуре это, конечно, очень активно представлено. Я не могу полностью выйти за рамки бытия, но все-таки я и внутри себя есть, не только снаружи. Я отнюдь не только рефлексирую, а еще и живу, служа объектом собственных рефлексий, но этот объект все-таки существует и, значит, порождает все новые рефлексии, но ядро есть, и я это очень хорошо чувствую. Вероятно, в отличие от многих мыслителей, которые ставят под сомнение наличие в человеке конечного объекта и считают, будто наша культура слишком рефлексивна, а субъект практически утерян, я этого исчезновения не ощущаю, у меня такой вопрос не возникает, я его воспринимаю как пустое, ни чему не ведущее теоретизирование. Это первое. Второе: я не могу не учитывать, что ирония распространяется только на ту часть нашей жизни, которую можно увидеть и потрогать. Как мы можем взирать на космос с иронией? На то единственное, что существует, чей источник и границы нам неизвестны. Не знаю. И еще: для иронии необходим внешний подход. Если мы не в состоянии возвыситься над космосом, то и с иронией поладить не получится. В любом случае, чтобы обрести иронию, придется вылезти наружу. Естественно, можно посмотреть со стороны на социальную, психическую жизнь человека, на всю человеческую культуру, доступную взгляду. За цивилизацией мы тоже умеем очень иронически наблюдать, не будучи способны выйти за ее пределы. Так что есть огромная разница. <…>
Примечания
- ^ Жигмонд Каройи (Károlyi Zsigmond; 1952) — венгерский художник, специалист по истории искусства.