Круглый стол. Экология как новая политика
За минувший год с разговорами об экологическом кризисе мы сталкивались везде — начиная с кафе, которые отказались от пластиковых трубочек, и заканчивая Венецианской биеннале. Во многом благодаря проекту «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» в Музее современного искусства «Гараж» экология стала чуть ли не главной темой выставочного сезона. Чтобы понять, как эта проблематика отозвалась в художественной среде, обозреватель «Артгида» Татьяна Сохарева поговорила с кураторами, художниками и исследователями, работающими с экологической тематикой. В дискуссии приняли участие кураторы выставки «Грядущий мир» Екатерина Лазарева и Снежана Кръстева, художница Анастасия Потемкина, философ Полина Ханова и эколог Павел Боев.
 Полина |  Анастасия |  Павел |
 Татьяна |  Екатерина |  Снежана |
Татьяна Сохарева: Давайте начнем наш разговор о выставке «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» в музее «Гараж» с вопроса о подходах к насущным проблемам, связанным с экологическим кризисом. На какие теории вы опирались? Какие из них кажутся вам наиболее адекватными?
Екатерина Лазарева: Работая над выставкой, мы провели довольно серьезное исследование — не только в области экотеории, но и в области выставочной практики, посвященной этой теме, истории экодвижения; вникли в актуальные экологические проблемы. Не вдаваясь в перечисление всех увиденных нами выставок, прочитанных книг и каталогов, ключевыми фигурами в плане теории сегодня я бы назвала Тимоти Мортона и Ти Джей Демоса. Причем первый — гениальный популяризатор экологической повестки. Но нашу оптику и наши подходы определил именно Демос с его критикой, казалось бы, родовых понятий современного экодискурса — концепции антропоцена и идеологии устойчивого развития. В частности, антропоцен плох тем, что возлагает вину за экологический дисбаланс на людей, вменяя им индивидуальную ответственность и при этом отвлекая всеобщее внимание от политики и экономики, то есть от правительств и корпораций, оказывающих не меньшее воздействие, чем отдельные люди. Так что привычный разговор про ответственное потребление как путь к преодолению экологического кризиса нам было важно дополнить пониманием экологии-как-политики, что подразумевает не только коррекцию своих потребительских привычек, но и способность объединяться и призывать к ответственности тех, кто получает прибыль, эксплуатируя природные ресурсы.

Татьяна Сохарева: Мортон в последнее время стал главным авторитетом в любом разговоре об экологии. Я знаю, что у Полины Хановой также был проект, посвященный темной экологии. Верно? Чем он привлек вас?
Полина Ханова: Проект — это, конечно, сильно сказано, но да, я пытаюсь работать с тем, что предлагает Мортон. Лично мне он интересен в первую очередь как очень депрессивный автор. Хотя Мортон и говорит об искусстве как о способе концептуально переосмыслить ситуацию, в которой мы находимся, он при этом не предлагает никакого позитивного исхода. Да и в целом ответственность за происходящее возлагает даже не на индивида или корпорации, а на человечество как биологический вид. Антропоцен, согласно Мортону, начинается с неолитической революции, и таким образом идея коллективной ответственности выходит далеко за рамки собственно европейской цивилизации. В этой связи я бы тоже хотела задать вопрос кураторам: вы опирались на Мортона только лишь как на критика традиционного экологического дискурса?
Екатерина Лазарева: Я бы не сказала, что в работе над выставкой мы ориентировались на теории Мортона, но нам было важно издать его первую книгу на русском языке — причем издать именно одну из самых доступных его работ, чтобы обозначить нишу для будущих более серьезных публикаций. Being Ecological привлекательна тем, что не кричит о чрезвычайной необходимости решительных действий, не требует от читателя срочно заняться сортировкой мусора, перестать есть мясо и т. п., но в своем ироничном наслаждении парадоксами она не оставляет иллюзий по поводу того, где мы сейчас находимся. И мне-то как раз кажется, что есть доля лицемерия в утверждении, будто человечество виновато как биологический вид, — все-таки все необратимые последствия, с которыми мы сейчас имеем дело, связаны лишь с последними двумя веками человеческой деятельности.
Полина Ханова: Мортон бы, наверное, ответил, что за последние два века ситуация обострилась настолько, что ее уже невозможно игнорировать, а началось все гораздо раньше.

Татьяна Сохарева: Работа Насти Потемкиной на выставке тоже отчасти была про поиск языка. Расскажите о ней подробнее, пожалуйста.
Анастасия Потемкина: Я бы сказала, что это была попытка понять, возможна ли межвидовая коммуникация в принципе. Но это делалось вовсе не для того, чтобы разговаривать об экологии и сокрушаться по поводу того, в каком страшном состоянии это все пребывает. Мне кажется, если мы хотим как-то соотносить себя с современностью, мало уметь общаться только с себе подобными. Заметьте, даже наше общение с домашними животными зачастую происходит на человеческом языке, что само по себе довольно глупо. Нам нужно научиться коммуницировать с другими видами или даже объектами иначе.
Татьяна Сохарева: На выставке представлено несколько проектов, которые по идее должны помочь наладить такую коммуникацию. Но готов ли зритель к этому?
Анастасия Потемкина: Ой, мне кажется, бедному зрителю уже все мозги промыли экологией, и это, кстати, тоже важный вопрос. Сейчас каждый дурак ставит у себя на выставке пальму и тем самым отрабатывает экологическую повестку. Поэтому я в нынешней ситуации уже не понимаю, как себя позиционировать. Мне все время приходится объяснять, что я не экоактивистка и не художница, озабоченная природной тематикой. Во-первых, мне эти определения совершенно не близки. Во-вторых, крайне неприятно быть художником, который внезапно оказался в тренде, хотя я разрабатываю примерно одни и те же проблемы с 2011 года.
Татьяна Сохарева: Какое место в этом процессе занимают ваши проекты про маргиналов от природы — голубей, крыс и так далее?
Анастасия Потемкина: Тема маргинализированных сообществ по-прежнему остается для меня актуальной, потому что пока мы живем в обществе с жесткой иерархией, эти маргиналы никуда не исчезают. Но мне опять же не хочется преподносить это под соусом спасения мира. Знаете, как часто говорят: «Пора бы нам уже отдать долг нашей планете!»? Вся эта экодурость ужасно раздражает. Да и искусство, существующее в таком контексте, как правило, получается отвратительным. В мои студенческие годы, когда я училась у Асса в МАРХИ, нас часто спрашивали, о чем тот или иной проект, и студенты отвечали: «Это чтобы люди задумались». Вот, на мой взгляд, наихудший подход к экологической повестке — стремление кого-то на что-то сподвигнуть, заставить задуматься и так далее. Мне гораздо важнее смена оптики, позволяющая иначе взглянуть на привычные вещи.

Полина Ханова: Я согласна с тем, что экологическая риторика бывает излишне приторной, но с другой стороны, а что на самом деле делает такое искусство? Оно же действительно заставляет задуматься. Вы назвали выставку «Экология как новая политика». Что в таком случае политика, если не призыв к действию?
Екатерина Лазарева: Мне как раз установка на то, чтобы «люди задумались» кажется более аккуратной и приемлемой, нежели открытая агитация и призыв к действию. На самом деле экология на наших глазах и так становится актуальной и важной частью политического протеста, но мы не ставили перед собой задачу «представить» на выставке активистские практики — мы хотели оставить зрителю свободу воображения, чувствования и вот этой «задумчивости», то есть рефлексии.
Анастасия Потемкина: Может быть, это и правда так, но в нынешнем виде рост экологической сознательности на самом деле ничего не меняет. Дальше сортировки мусора у себя на кухне никто, как правило, не заходит. А те, кто сортирует мусор, не догадываются проверить, куда действительно уезжают его пластиковые бутылки, перерабатываются ли они или лежат на ближайшей свалке. Чаще всего все эти действия нужны для самоуспокоения, чтобы получить индульгенцию и больше ни о какой экологии не думать, мол, я свой гражданский долг выполнил, и все. Но изменения должны происходить на государственном уровне, иначе в этом нет смысла. Какая разница, если пять человек в доме сортируют мусор, а остальные сто — нет? У нас даже в Москве не везде есть подходящая инфраструктура.
Павел Боев: С 1 января 2020 года контейнеры должны появиться везде, так что инфраструктура будет. Я совершенно согласен с Настей и хотел бы еще обратить внимание вот на какую особенность. Сейчас существует довольно радикализированная прослойка экоактивистов, которая отпугивает тех, кто хотел бы изменить свой образ жизни на более экологичный, но пока не может себе это позволить или не готов в одночасье кардинально поменять свои привычки и стиль жизни. От таких людей сразу начинают требовать всего. Стоит человеку сделать первый шаг к более ответственному образу жизни и начать сортировать мусор, как на него нападают с претензиями: «Ах, ты сортируешь мусор, но продолжаешь летать на самолетах? Да ты лицемер!». Эта проблема не менее актуальна, чем отсутствие инфраструктуры.
Екатерина Лазарева: А с другой стороны, когда живешь в стране с сырьевой экономикой, ты как будто заведомо разделяешь это бремя климатической вины.

Полина Ханова: Есть известная конспирологическая теория, которая гласит, что риторика перекладывания ответственности на конечного пользователя — это способ отвлечь внимание от основного источника проблемы. То есть от тех корпораций, которым выгодно, чтобы мы летали на самолетах и ходили с пластиковыми пакетами.
Татьяна Сохарева: Музей тоже работает как своего рода корпорация. Меняет ли экоповестка ваши стратегии? Я слышала, что «Гараж» отказался от транспортировки некоторых работ, которые можно было воспроизвести по инструкциям.
Екатерина Лазарева: Это правда, мы постарались сделать выставку максимально экологично, но мы отдаем себе отчет в том, что выставочная деятельность не самая вредная отрасль. Действительно, мы повторно использовали архитектуру предыдущей выставки, отказались от печатных буклетов (возможно, не самое удачное решение) и воспроизвели ряд работ по инструкции художников, без их присутствия. Но это был тот случай, когда работы не могли быть сделаны иначе — как объект Марты Рослер из живых растений или проект с российскими водоемами Critical Art Ensemble. Нам было важно поднять вопрос, как делать выставки экологично. Но не менее важно было, чтобы выставка состоялась как высказывание.
Татьяна Сохарева: Мне кажется, в России ни один музей не перешел на экологичное производство выставок, потому что это сопряжено с лишними затратами.
Снежана Кръстева: Почему же? Без бюджета можно сделать очень даже экологичную выставку из подручных материалов.
Павел Боев: Это один из очень живучих мифов, что «экологично» обязательно означает «дорого». На самом деле уже одно только повторное использование конструкций, которые строились к выставке Пепперштейна, существенно снизило затраты музея.
Екатерина Лазарева: Да, но изначально это были конструкции, возведенные для временной выставки. Проблема экологичного производства временных выставок в первую очередь связана с архитектурой — редко где музейная архитектура позволяет достаточно эффектно и разнообразно трансформировать пространство. В Москве сейчас в принципе нет таких музейных пространств.
Снежана Кръстева: Эту проблему можно решить только в том случае, если озаботиться ею на этапе строительства. Если ты изначально планируешь работать с пространством, ничего при этом не производя, то потихоньку ты к этому придешь. Мы же не ставили перед собой такие цели раньше, поэтому сейчас сталкиваемся с проблемами. Для архитектора выставок сделать конструкции, которые можно было бы использовать повторно, — очень нетривиальная задача.

Павел Боев: А на какой срок вы планируете выставки? Можно ли сейчас условиться, что, например, во время 2-й Триеннале современного искусства будут использованы все те же конструкции с выставки Пепперштейна?
Снежана Кръстева: На самом деле мы довольно часто используем материалы повторно, это не первый наш подобный опыт. Другое дело, что сами выставки мы способны запланировать на три года вперед, но с архитектурой дела обстоят сложнее. Обычно образ рождается в процессе подготовки проекта, и не всегда его можно реализовать при помощи имеющихся материалов. Также не стоит забывать, что разные выставки, как правило, делают разные архитекторы. Один не может предположить, как будет работать другой через год. К тому же все универсальное зачастую предполагает стандартизацию. В итоге теряется индивидуальность, а это идет вразрез с тем, что мы хотели бы показывать зрителю. Очень сложно сделать выставку экологичной и в то же время уникальной.
Татьяна Сохарева: Давайте вернемся к активистским практикам. Чем обусловлен отказ от них? Ведь экоактивизм — это и есть новая политика, о которой мы говорим в контексте выставки.
Снежана Кръстева: Я могу поспорить с этим утверждением. Нам было важно донести мысль, что политика касается каждого из нас вне зависимости от того, выходим мы на демонстрации или нет. Мне кажется неверным утверждение, что политикой занимаются только отдельно взятые активисты. Поэтому мы и говорим, что экологическая повестка универсальна.
Екатерина Лазарева: На мой взгляд, все практики хороши в своем контексте — лозунги хороши на демонстрациях, а представленные на выставке произведения могут поднять более сложные вопросы. Когда активистское искусство показывают в музее, на автономной территории искусства, оно, как правило, лишается своей подрывной силы и вместе с тем эстетически оказывается не настолько выразительным, чтобы достучаться до зрителя. Поэтому мы не стали углубляться в репрезентацию экоактивизма.
Снежана Кръстева: Активистские практики зачастую представляют ситуацию в черно-белых тонах. Но не все в этом мире хорошо упрощать до лаконичности лозунгов. Поэтому мы работали с искусством, которое не дает однозначного ответа на вопросы.
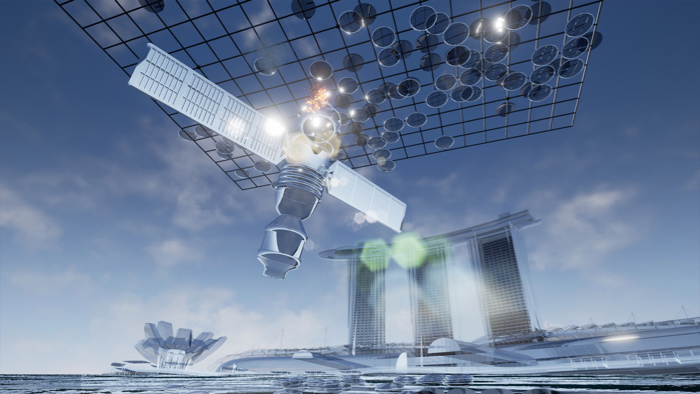
Татьяна Сохарева: У меня еще есть вопрос к Павлу. Мы знаем много примеров, когда художники заимствуют научную методологию в своих проектах. Происходит ли обратный процесс? Есть ли в научных кругах интерес к тому, как экологический кризис осмысляется в гуманитарной сфере, в частности в искусстве?
Павел Боев: Да, безусловно, обмен мнениями происходит. Мы вообще постепенно уходим от строгого разделения мира по профессиональному признаку. Нет такого, чтобы ученые делали какие-то открытия, а гуманитарии в своем мире занимались переосмыслением всего этого. Тренд на междисциплинарность очень силен. В принципе, идея антропоцена во многом и говорит нам о том, что мы все живем в одном маленьком и довольно уязвимом мире, мы все связаны между собой и являемся частью одного общего процесса. Именно поэтому мне не очень нравится тенденция обвинять во всем исключительно капиталистическое западное общество с его культурой потребления. Она характерна для многих мыслителей, в том числе для Тимоти Мортона, который тяготеет к левому активизму и постколониальному дискурсу. Безусловно, на западном обществе лежит огромная ответственность, но не надо забывать, что антропоцен как геологическая эпоха, по мнению целого ряда исследователей, начался еще во времена неолитической революции, а возможно, и раньше. Мы же понимаем, что массовое вымирание мамонтовой фауны было связано не только с климатическими особенностями, но и с деятельностью наших предков. Точно так же исчезновение птицы моа в Новой Зеландии не колониальное наследие Британской империи, а следствие жизнедеятельности «коренных» маори, которые приплыли туда за несколько веков до европейцев и уничтожили практически всю уникальную местную мегафауну (в основном крупных нелетающих птиц), долгое время развивавшуюся в изоляции и не адаптировавшуюся к присутствию человека. Так что на самом деле мы трансформируем планету давно, просто сейчас мы делаем это очень быстро. Поэтому нам и необходим диалог между наукой и искусством, наукой и политикой и так далее.
Татьяна Сохарева: Я читала, что Настя побывала в резиденции при научно-исследовательском институте. Расскажите об этом опыте. Получилось ли найти общий язык с учеными?
Анастасия Потемкина: Это была швейцарская программа. Я работала в Научно-исследовательском институте леса, снега и ландшафта в Цюрихе. Общение с учеными поначалу складывалось не очень хорошо, потому что это закрытое сообщество, не привыкшее коммуницировать с художниками. Они мне показывали, чем занимаются, рассказывали про эксперименты с инвазивными видами. Но когда я пыталась объяснить, что в этом процессе есть очень интересное политическое измерение, мне только одна ученая из Украины ответила, что, да, это, вообще говоря, геноцид всех существующих культур в рамках отдельной чашки. В общей сложности я провела там три месяца, и только в самом конце, когда все немного расслабились, ко мне подошел глава лаборатории и сказал: «Знаешь, когда ты только приехала и начала нести фигню про политику, я подумал, что ты просто ку-ку. Сейчас мне кажется, что в этом есть смысл». Это было очень показательно. Потому что мы настолько привыкли к научным терминам, что не замечаем, как они меняют свое значение в ином контексте. А ведь инвазия — это очень серьезный политический разговор. Мне в целом смешно слышать, как какие-то виды называют инвазивными, ведь единственная настоящая инвазия — это мы. Мы переносим виды в новую среду и наделяем их статусом злого растения, которое все уничтожает на своем пути. А на самом деле оно не злое, оно просто из другой экосистемы.

Павел Боев: Самый яркий пример инвазии последних лет был связан с подготовкой к Олимпиаде в Сочи. В процессе озеленения туда завезли бабочку — самшитовую огневку, к которой наш колхидский самшит был не приспособлен. В итоге за два года личинки этой бабочки «съели» практически все реликтовые самшитовые рощи, которые появились на Западном Кавказе еще до последнего оледенения. Сейчас эта проблема актуальна не только для России, но и для Абхазии, Грузии и северной Турции, но сделать уже, к сожалению, ничего нельзя. Можно только дать бабочке «доесть» самшит и подождать, пока она сама вымрет. Тогда через сотни лет, возможно, популяция самшита восстановится, но ни мы, ни наши внуки не уже увидим этих рощ.
Анастасия Потемкина: Так в том-то и дело, что мы демонизируем инвазивные виды, забывая, что у природы на самом деле есть свои механизмы регуляции всех этих процессов. Проблема только в том, что времени требуется больше, чем нам того хотелось бы. Мы же хотим, чтобы рощи прямо сейчас выросли, мы не хотим ждать несколько веков.
Полина Ханова: Это очень распространенное мнение: будто существует некая законсервированная в своей идеальности природа, а все, что в нее вносит человек, — ужас, кошмар, погибель. Меня всегда поражала тенденция исключать человека из разговора о природе, словно мы какие-то инопланетяне, которые пришли непонятно откуда и сразу начали вредить. Мортон же нас как раз и возвращает к осознанию себя как еще одного биологического вида. Вроде бы мысль простая, но многим до сих пор недоступная, потому что мы привыкли воспринимать себя как нечто принципиально иное. Это очень сильно ограничивает мышление.
Павел Боев: Это опять же возвращает нас к вопросу, кто несет ответственность за текущий экологический кризис. В этом смысле очень показателен пример Бразилии. Мы постоянно забываем, что основная причина уничтожения лесов там — это сельское хозяйство, а Россия — один из крупнейших потребителей бразильской говядины в мире. Особенно после того, как были введены санкции, и мы перестали импортировать мясо из Европы и США. Поэтому, когда мы идем покупать мясо, мы, можно сказать, вносим свой вклад в уничтожение лесов Бразилии. Нам всем хочется потреблять много и качественно, но при этом дешево, а это, к сожалению, невозможно без расширения сельскохозяйственных площадей.

Татьяна Сохарева: Меня смущает, что, когда мы начинаем задумываться, к чему все идет, мы опираемся на какие-то утопические концепции и прогнозы футурологов прошлого века. Насколько они жизнеспособны?
Екатерина Лазарева: Ровно настолько, насколько они занимают наше воображение, ведь будущее все равно будет не таким, как мы его себе представляем.
Анастасия Потемкина: Мне в этом смысле показался удачным фильм Лоуренса Лека, в котором он как раз и показывает, как фантазия становится реальностью. Единственное, что мне не очень понравилось, — так это то, что искусственный интеллект в нем представлен как такая тоскующая машина. Это все очень странно. Я не понимаю, почему люди все время стремятся сделать технологии антропоморфными. Откуда в них эта тоска?
Полина Ханова: Еще Тьюринг, когда формулировал идею искусственного интеллекта, сказал, что он должен быть неотличим от человеческого. Идея о том, что он может быть вообще никак не связан с нашими механизмами мышления, не пришла ему в голову. Видимо, любое изобретение является проекцией той ситуации, в которой она была создана.
Павел Боев: Мне кажется, просто мы склонны антропоморфизировать все, что нас окружает. Посмотрите на произведения искусства: одна из древнейших найденных археологами скульптур — это найденный в Германии палеолитический «человек-лев». И если раньше мы атнропоморфизировали явления природы и животных, то сейчас эти представления перекинулись на искусственный интеллект и другие технологии.
Анастасия Потемкина: Но почему бы просто не представить, что искусственный интеллект мыслит иначе? Зачем Леку его антропоморфизировать?
Екатерина Лазарева: Думаю, он хотел, чтобы зритель воспринял его как часть своей природы, а не как нечто чужеродное. Мы должны чувствовать эмпатию по отношению к искусственному интеллекту. Будучи машиной, он не вызовет у нас никаких чувств, и мы просто не станем смотреть этот фильм в течение 48 минут. Человек не привык тратить свое время на то, что ему тотально чуждо.
Павел Боев: Точно также работает концепция злого искусственного интеллекта, который почему-то должен уничтожить человечество, хотя это маловероятно. Мы же не называем геноцидом ситуацию, когда человек идет в лесу по тропинке и нечаянно наступает на вереницу муравьев. У него нет задачи уничтожить муравьев, он просто идет за грибами или гуляет. То же самое может случиться и с искусственным интеллектом, но демонизировать его все же не стоит.
Полина Ханова: Это опять же проекция нашего колониального мышления. Если появляется какая-то непохожая культура, мы непременно хотим ее поработить и думаем, что искусственный интеллект будет поступать так же с нами.
Анастасия Потемкина: Какие мы идиоты все-таки…
Снежана Кръстева: Это точно. Взгляните на фильмы-катастрофы. Мы представляем себе гибель человечества как трагедию вселенского масштаба, а на самом деле если мы исчезнем, то никто во Вселенной этого не заметит.
Павел Боев: И даже если мы вымрем в результате жуткого экологического кризиса, Земля, скорее всего, все равно через несколько миллионов лет восстановится. Просто без нас. Так что экологические проблемы — и прежде всего изменение климата — это в первую очередь риски для нас самих.




