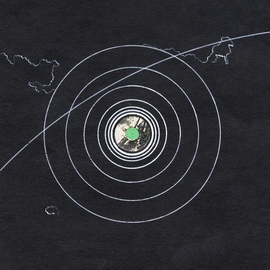Монологи. Виктор Мизиано
В цикле «Монологи», подготовленном культурологом, журналистом, автором-ведущим программ о культуре на «Радио России» Сергеем Чебатковым, ключевые участники современного художественного процесса рассказывают, почему и как в 1980–1990-е они решили связать свою судьбу с современным искусством. Первый монолог принадлежит историку искусства, куратору и критику, основателю «Художественного журнала» Виктору Мизиано.
 Виктор Мизиано, Вадим Захаров, Георгий Литичевский, Ольга Лопухова, Андрей Ройтер, Андрей Филиппов, Борис Орлов, Дмитрий Александрович Пригов, Надежда Бурова и другие на открытии выставки Mosca: la terza Roma («Москва — Третий Рим») в Sala 1, Рим. 1989. Первая выставка Виктора Мизиано, осуществленная им в качестве независимого куратора. Courtesy Виктор Мизиано
Виктор Мизиано, Вадим Захаров, Георгий Литичевский, Ольга Лопухова, Андрей Ройтер, Андрей Филиппов, Борис Орлов, Дмитрий Александрович Пригов, Надежда Бурова и другие на открытии выставки Mosca: la terza Roma («Москва — Третий Рим») в Sala 1, Рим. 1989. Первая выставка Виктора Мизиано, осуществленная им в качестве независимого куратора. Courtesy Виктор Мизиано
Так сложилось, что в 1990-е годы я являл собой довольно редкий пример деятеля современного искусства, у которого было историко-художественное образование. Я окончил Московский университет, отделение истории искусства, кафедру западного искусства. И уже тогда, в университетские годы, в конце семидесятых, я живо интересовался современным западным искусством, то есть не тем, что в то время официально выставлялось, а тем, что было признано за международный мейнстрим уже только в постсоветские годы.
Однако проблема была в том, что в условиях позднего советского общества заниматься современным интернациональным искусством, или, как тогда говорили, «современным зарубежным искусством стран Запада», можно было только в формате его непримиримой критики. Конечно, критика эта подчас носила совершенно ритуальный характер. Если ты хотел публично высказаться по поводу западного искусства, тебе обязательно нужно было выстроить некие кулисы в виде, например, предисловия к публикации с набором правильных цитат из Маркса, Энгельса, материалов последнего съезда КПСС и т. п. И после этого можно было, в принципе, достаточно спокойно писать, исследовать, интерпретировать материал так, как тебе казалось целесообразным, не легко обходя цензурные ограничения. Но, честно говоря, даже вот такая достаточно комфортная работы с материалом отталкивала меня своей недостаточной полноценностью.
Немаловажно и то, что серьезной академической школы теоретического описания современного искусства тогда не существовало (что, кстати, аукнулось нам позднее, когда это искусство, получив наименование актуального, стало заполнять собой постсоветскую сцену, а на его квалифицированное критическое описание оказались способными лишь два-три человека). Поэтому я выбрал другой путь. Я стал заниматься классическим искусством, изучение которого велось у нас тогда на несравненно более серьезном уровне, — это могло, как я рассчитывал, дать мне хорошую академическую школу.
Моим научным руководителем оказался заведующий всем отделением, то есть главная фигура в Московском университете по вопросам истории искусств Виктор Николаевич Гращенков. И это, конечно, была великолепная школа. Занимался я тогда XVI веком, искусством маньеризма. Причем занимался теорией маньеризма, трактатами, которые писали художники XVI века. В то время сам феномен маньеризма считался неким открытием XX века. Им занимались наиболее прогрессивные западные теоретики искусства — Дворжак, Хаузер и другие. При этом во многом в своей интерпретации прошлого они опрокидывали на XVI век интеллектуальный опыт своего времени. Поэтому, занимаясь XVI веком, я, по сути, занимался веком XX.
В целом же в историко-художественной и вообще гуманитарной среде к современному искусству относились с предубеждением. Даже в наиболее либеральных кругах, в среде продвинутых и идеологически незашоренных людей к нему относились с легкой брезгливостью, некоторой настороженностью и в лучшем случае с индифферентностью. Его предпочитали не касаться. Думаю, что связано это, в частности, с тем, что в атмосфере позднего советского общества большинство либеральной интеллигенции склонно было занимать позиции некоей «вненаходимости» (воспользуюсь здесь термином Михаила Бахтина) для идеологического режима. Они очень часто вовсе не склонны были занимать не только диссидентскую, но даже и протодиссидентскую позицию.
Эти люди уходили в такие пространства, такие измерения, в которых советский идеологический режим как бы не присутствовал. Поэтому в искусствоведческой среде того времени интерес в первую очередь был к Средневековью. Одними из главных книг эпохи в тот момент были, например, труды по византийской эстетике Аверинцева. Популярны были древние языки, искусство Ренессанса, дворянская культура XIX века. Люди искали достаточно герметичные пространства, в то время как современное искусство отпугивало своей избыточной близостью к идеологическим проблемам, так как само западное современное искусство было достаточно политизированным, левым, слишком связано с протестной социальной и политической позициями. Я имею в виду французский 1968 год, разные современные радикальные философские теории. Сегодня мы обо всем этом прекрасно знаем, и это не вызывает уже у нас никакой идиосинкразии. Но тогда весь этот комплекс идей, этот тип поведения в культуре оказывались в фокусе внимания советской идеологии, именно в силу того, что были чрезмерно близки к какому-то политическому аффекту. Поэтому наиболее высокие и тонкие интеллектуалы тогда были склонны всего этого сторониться как такой идеологически зараженной области знания.

Все это создавало ситуацию отсутствия серьезного увлечения современным искусством. И это, конечно, во многом объясняет дальнейшее постсоветское развитие отечественного художественного процесса. То, с чем мы столкнулись в девяностые годы, и то, что, в общем-то, проявляется и сейчас, — это очень низкая интеллектуальная структура художественного мира. Тот низкий уровень экспертной поддержки, уровень экспертного суждения в современном искусстве в нашей стране сейчас, конечно же, связан с тем, что изначально не сформировалась школа, не сформировалась традиция описания современного искусства еще в поздние советские годы. Судите сами: вспомните, сколько важных и принципиальных книг появилось по социологии, политологии и прочим наукам, как только в самом начале девяностых годов кончились препоны цензуры, Это произошло потому, что уже были готовы переводы, были готовы специалисты, которые на тот момент уже прекрасно ориентировались в этом интеллектуальном материале. Я имею в виду именно интернациональный масштаб общественной, политической, философской мысли. А вот какие-то более или менее важные книжки по истории и теории современного искусства появляются у нас только сейчас, то есть по прошествии 25 лет.
При этом в советское время материала для изучения современного западного искусства было сколько угодно. Это сейчас в наших библиотеках нет периодических журналов, книг, альбомов. А в то время и в Библиотеке иностранной литературы, и в Ленинской библиотеке, и в Центральной библиотеке по искусству в открытом доступе без всяких ограничений были и Artforum, и Flash Art, и Art in America, и ARTnews, а также французские, немецкие и другие журналы по искусству. Ты приходил в читальный зал, и любую подшивку можно было просто взять и начать с ней работать без всяких проблем. Хочешь так, хочешь со словарем. Можно сказать, я был воспитан на всей этой периодике. Находясь тогда в Москве, я совершенно свободно мог следить за мировым художественным процессом, за самыми актуальными событиями в мире искусства. То же самое было и с книгами. Те издания, которые были недоступны в библиотеках, можно было выписать по библиотечному абонементу. Могу вам точно сказать, что интеллектуальная инфраструктура в советские годы была очень и очень развита. Однажды мне понадобилась знаменитая книжка Дэниела Белла про постиндустриальное общество, которой не было тогда в свободном доступе. Чтобы ее прочесть, нужно было обращаться в Спецхран. Так вот, на кафедре, где я учился и писал работу по искусству XVI века, мне тут же поставили соответствующую печать, и библиотека на основании печати кафедры истории искусств выдала мне эту книжку, которую я спокойно прочел, сидя в Спецхране. В страшном Спецхране. Куда доступ был жестоко ограничен. И куда, как выяснилось на самом деле, попасть было абсолютно элементарно.

Надо сказать, что то, чем занимался в советское время в музее младший научный сотрудник Пушкинского музея, и было по существу кураторской работой. Я готовил выставки, готовил проекты. Правда, советский музейный уклад совершенно не знал такой вещи, как индивидуальное авторство проекта. Не знал такого статуса. Но при этом само авторство как практику он, конечно же, прекрасно знал. Мои первые проекты в музее, которые, к сожалению так и не осуществились на практике, были очень масштабными. Нам тогда казалось, что перестроечные годы дают нам наконец-то возможность сделать большие интернациональные выставки с привлечением различных мировых музеев. Я занимался подготовкой таких выставок, и это была для меня прекрасная школа. Тогда я работал с одним из наиболее ярких знатоков современного искусства тех лет, Мариной Бессоновой. Хотя она и была специалистом по французскому искусству XIX — начала XX века, она внимательно следила за тогдашним современным искусством. И вот пока мы готовили эти проекты, перестройка, к сожалению, уже перегорела, и стало просто экономически невозможно для музея и для министерства культуры реализовать на практике то, над чем мы работали. Ну а потом и я сам ушел из музея. Сейчас я понимаю, что все это былой очень хорошей кураторской школой для меня — наверное, лучшей в стране, да, как я теперь понимаю, и одной из лучших в мире на тот момент. Потому что тот интеллектуальный уровень, на котором находился тогда коллектив Пушкинского музея, безусловно, отвечал самым высоким стандартам своего времени.
Так что можно сказать, что в тот момент, когда я решил заниматься конкретно современным искусством, у меня никакого особого профессионального слома не было. Я, собственно говоря, уже и был куратором в течение многих лет, работая в Пушкинском музее. У меня не было авантюрного вхождения в профессию. В этом, может быть, в некотором смысле, и состоит причина определенных сложностей в моей профессиональной судьбе. Для меня как для выпускника Московского университета и как для человека, десять лет проработавшего в наиболее интеллектуально продвинутом музее страны, создание любой выставки было в первую очередь интеллектуальным предприятием. В то время как в московском художественном контексте тех лет излишняя интеллектуальность была не тем, чего в первую очередь ждали от куратора.

Моя встреча с московским художественным андерграундом произошла в конце семидесятых. В период Московского кинофестиваля. Я тогда был еще студентом третьего или четвертого курса университета. Так получилось, что одним из членов жюри фестиваля был известный итальянский публицист и критик, друг моей семьи. Он тогда часто бывал в Москве и был знаком со многими андерграундными художниками. Он дружил с Кабаковым, с Янкилевским, со всей так называемой Школой Сретенского бульвара. И я стал таскаться с ним по мастерским, и так познакомился со всеми художниками. Надо сказать, что это были какие-то необычайно приятные встречи, и не только для меня как для человека, который вдруг открыл для себя существование необыкновенно мощного, эстетически полноценного, оригинального художественного контекста. Эти встречи были приятны и художникам, потому что они уже привыкли к такому пренебрежительному отношению к себе со стороны историко-художественной среды. Конечно, у нас была тогда большая разница в возрасте. Но я приходил в мастерские, живо реагировал на все, воспринимал их деятельность не с настороженностью. Я прекрасно помню, что на самой заре перестройки, когда прошли выставки Янкилевского и Кабакова на Малой Грузинской, мои друзья по Московскому университету Владимир Левашов и Екатерина Деготь стояли перед работами Янкилевского, к тому моменту уже моего друга, и скептически говорили мне: «Ну и что, Витя, ты сейчас будешь убеждать нас, что это искусство?» Так что даже те люди, которые сегодня кажутся нам неотъемлемой частью современного актуального искусства, тогда, в поздние восьмидесятые, считали то, что делали андерграундные художники, несколько непривычным. Нас же, как я помню, в те годы было фактически только двое таких энтузиастов, принимавших на ура все то, что делали художники Сретенской школы, — Андрей Ерофеев и я.
А вот с художниками моего поколения, с концептуальными художниками, продолжателями традиций московского концептуализма — с Вадимом Захаровым, Константином Звездочетовым, Андреем Филипповым, Юрием Альбертом, — вот с этим кругом я познакомился позднее, в самом начале перестройки, когда начались уже систематические показы андерграундной культуры.